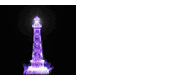Семь футов под килем - 31
- Опубликовано: 05.01.2013, 08:37
- Просмотров: 333330
Содержание материала
* * *
Ошеломляющее «прозрение» пришло к Ольшевскому в тот неожиданный момент, когда он собирался вскарабкаться после смены на верхнюю койку. И вдруг, как внезапным приступом радикулита скованный, Костя замер к нелепой позе: одна нога на полу, другая поднята на скамейку, чтобы, опершись о нее, вскинуть тело на постель.
Еще не разобравшись толком, Ольшевский понял главное: на пего, как циклон, обрушилась мысль страшной разрушительной силы, последствия которой он пока не мог себе и представить. Парень вяло взобрался на второй ярус, накрылся одеялом.
Усталость тела, как сильна она ни была после изматывающей шестичасовой работы, превратилась в ничто по сравнению с той душевной мукой, что нежданно-негаданно вспыхнула в нем и начала уже дурманить мозг: «Ведь до меня у Кати уже кто-то был!»
Конечно, Ольшевский знал об этом и вчера, но тогда он был поглощен утверждавшимся в нем чувством мужской полноценности, за что испытывал к Кате искреннюю благодарность. И вдруг — такое!
Он покраснел, что еще недавно ходил по траулеру как самодовольный гусак. «Дурак, ох, какой же я дурак!» — ворочался с боку на бок Костя, довольный уже и тем, что лежит за занавеской и никто не видит его «позора».
Трудно сказать, что сильнее уязвляло его: стыд, ревность ли к катиному прошлому или же оскорбительное сознание, что он, двадцатилетний верзила, совершенно не разбирается в некоторых вещах, а вот Злот-никова — прекрасно, и смотрит на него, поди, как на глупенького барашка.
От одной этой мысли ему стало не по себе, а тут, вдобавок, посетило еще и сомнение: подлинно ли Катя его любит, нет ли с ее стороны какого-то хитрого расчета? Может, она просто-напросто женить его на себе хочет? Как тогда быть с заветной мечтой, ради которой он наворотил столько дел? И совместимо ли творчество с женитьбой? Он ведь художником хочет стать, а мастер должен быть свободным... Какой из него, Кости, семьянин?..
И много прочих, неясных соображений, над которыми он никогда прежде не задумывался, хлынули в его голову.
Ночью Костя не сомкнул глаз. А весь следующий день решал один-единственный вопрос: идти на свидание или нет? Если не пойти, то как потом оправдываться перед Катей?
Ольшевский, справедливости ради сказать, где-то понимал, что вся его мнительность сродни бреду и способна жестоко обидеть Злотникову.
Так ничего и не придумав, он поплелся на мостик.
Катя ждала. В тот вечер она была как-то необычно, завораживающе нежной, а похудевшее, мило-смущенное лицо с блестящими в полутьме глазами было таким пленительным и желанным, что у Кости духу не хватило что-либо сказать ей.
То же самое повторилось и на другую, и третью ночи: Катя полностью отдавалась своему чувству и не хотела замечать растущей сдержанности Ольшевского. А может, она сознательно закрывала на нее глаза, стремясь продлить отпущенный на ее долю миг радости, но себя обмануть не удалось: сердце Злотниковой ныло. Она оттягивала и оттягивала на потом неизбежное объяснение — Екатерину ужасала неизвестность, грозившая поглотить и без того шаткое ее счастье.
Для ссоры, как это часто бывает, хватило мелочи.
В минувшие дни на фабрике было как-то, особенно хлопотно. Штурманы, наконец, набрели на «серебряную» жилу — много-пластовое рыбье изобилие. Трал майнался и в донном и в пелагическом вариантах, и конвейер «море — фабрика — трюм» заработал в полную мощность.
Резко, естественно, возросло и производство муки.
Ради ночных свиданий Ольшевскому и прежде приходилось урывать время от сна. Теперь он бодрствовал порой чуть ли не по двадцать часов в сутки. Этак недолго было и до беды.
Для всех, в том числе и для Кости, был еще памятен недавний случай с Петькой Шухом.
Матрос первого класса Шух погожим вечерком отпраздновал свой день рождения. Ни мальчишнике, понятно, была извлечена припрятанная бутылка водки, а, может, и не одна. Парни за разговором просидели
все шесть часов, а потом, прямо из-за стола, и подались на смену. Но если другие вкалывали кто на шкерке, кто на выбивке, то Шуху надлежало стоять на самом опасном месте — на головорезке, рядом с диском электропилы, вращающейся так, что ее в работе и не видно.
Петька был стреляный воробей, но его подвела похмельная нерасторопность. На какую-то долю секунды притупилась бдительность— и большого пальца правой руки как не бывало.
Сгрудившись возле протрезвевшего голо-ворезчика, парни, морщась от сочувствия, смотрели, как Шух, в первый момент еще не испытывая боли, сдирал с четырехпалой уже руки окровавленную резиновую перчатку...
После этого случая Ольшевский, а он в тукомолке тоже не по паркету ходил, старался, по возможности, укорачивать свидания с Катей. Ей же казалось, что он просто отыскал удобный предлог и норовит избавиться от нее. Она была неправа и знала об этом: ведь самой ей работать ночами не приходилось, но словно бес какой-то подзуживал повариху. Ей захотелось испытать свою власть.
Как-то раз она капризно протянула:
— Завтра я не смогу прийти. И всю будущую неделю — тоже.
— Почему?
— Так, — Злотникова деланно зевнула.
— Это не ответ, — настаивал он. — Что-нибудь случилось?
— Ничего!
— Ну, как знаешь, — чуть помедлив, произнес Костя и добавил без всякой задней мысли. — А может, это и к лучшему. Я хоть отосплюсь.
У нее на секунду занялось дыхание. Она резко поднялась.
— Я ухожу. Прощай!
— Да что это на тебя вдруг накатило?— с недоумением воззрился на нее Ольшевский. Сказать больше — он даже побаивался ее.
— Ах, нам, видимо, не надо больше встречаться, — отрезала Катя, взглядывая, однако, на него краем глаза.— Ты не высыпаешься. И вообще, тебе от меня только одного надо...
— Катя! Ну что ты мелешь?— урезонивал он ее, но уже с тоской в голосе. В Ольшевском невольно заговорило ответное раздражение. «Вот тоже... язва!»
— Да, да, и не пытайся отрицать! — сорвавшись с места, выкрикнула она вне себя. — Во что, спрашивается, превратились наши встречи? Сбежимся, полежим вместе, и в разные стороны. Противно!
— Но если сейчас иначе нельзя, — Костя все еще пытался уладить вспыхнувшее недоразумение.— Потом, когда запарка в работе кончится...
— И так, все кончено! — Катя с захолонувшим сердцем судорожно пыталась со-
браться с мыслями, сообразить, что это она такое говорит? Но самоконтроль был уже отерян. — Нам надо расстаться! — жестко заявила она. — Навсегда!
Ольшевский, вопреки ожиданию, пожал плечами, равнодушно обронил:
— Как хочешь, — он подумал, что, может быть, так им и надо порвать с Катей: резко и но обоюдному согласию.
— Что-о? — она опешила от легкости, с какой Костя соглашался на разрыв.
— Как хочешь, говорю, — хмуро повторил он, приподнимаясь с брезента. «Слава богу, завтра вечером хоть порисую. А то уже и забыл, когда держал в руке карандаш».
Катя мигом уселась на прежнее место.
— Нет, подожди. Ты вот мне объясни.
— Да чего там, — буркнул он. — И без того ясно.
Она окончательно растерялась и, спасая положение, заплакала, прибегнув к слезам, как к последнему средству.
Костя потоптался, потоптался в неловкости и опустился рядом, обнял Злотнико-ву за плечи, притянул к себе.
— Ты меня совсем не любишь, — уткнувшись в его подмышку, всхлипнула она.
— Но, Катя, ты же сама начала... «Ага, он оправдывается; это — хорошо!»—
мысленно подмигнула она себе. Рыдания усилились.
— Лучше скажи прямо, что я тебе надоела.
— Это я тебе, наверное, надоел. И потом... — тень нерешительности пробежала по его лицу.
— Что — потом? — тороплипо переспросила она, не переставая, впрочем, всхлипывать.
— Что у тебя было с Кокоревым? — у Ольшевского будто камень с плеч свалился, когда он, наконец, задал этот проклятый вопрос, сидевший в нем наподобие занозы. «Будь что будет!»
У Кати от удивления вытянулось лицо. На ресницах замерли слезы. Затем она упала навзничь на брезент, расхохоталась. И с этим нервным, болезненно-долгим смехом из ее души выплеснулось все: и недовольство собой, и усталость, и раздражение, накопившееся на Костю.
Ольшевский сумрачно и растерянно молчал.
— С тобой не соскучишься, — она насилу справилась с собой, посерьезнела. — Боже, какое ты еще дитя! Вон что, оказывается, тебя мучило? Ты что же, думаешь, если я с тобой, так могла и с любым другим? Да?
Ольшевский, сбитый с толку ее прямотой, пробормотал что-то нечленораздельное.
— Так вот знай, — сказала она, вкладывая все сердце в свои слова, — ты у меня — единственный. И не хмыкай, зна-аю я твои мыслишки. Да, я была замужем, у меня...—она вдруг отчего-то замялась, но тут же, метнув испуганный взгляд на лицо Кости, быстро нашлась.—У меня был муж. Теперь мы в разводе и, если тебя это интересует, уже год как не живем вместе... Но, скажи на милость, — на нее вновь напал давешний смех, — почему ты приписал мне именно Кокорева?
— Ну, следит за тобой, — промямлил Костя.— В вашу каюту часто ходит.
— И только-то? А ты не подумал, кто к нам не ходит? Одному перед вахтой, другому после приспичит: открой, да открой камбуз что-нибудь перекусить. Капитану по три раза на день кофе завариваю. Что ж, по-твоему выходит, я с каждым завожу шашни? Эх, ты!..