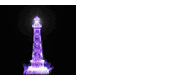Семь футов под килем - 27
- Опубликовано: 05.01.2013, 08:37
- Просмотров: 333340
Содержание материала
* * *
Ольшевский захандрил. Не совершил ли промашки, казнился он, когда мчался, сломя голову, через всю страну, не попал ли, по пословице, из огня да в полымя? Да и стоило ли вообще покрывать на воздушном лайнере огромное расстояние? Таиться, шарахаться от любого человека в милицейской форме, замирать от каждого внимательного взгляда?
Косте поначалу казалось, что выйдя в море, он убил сразу двух зайцев: и удрал с осточертевшей стройки, и сможет, наконец, осуществить свою идею, ставшую подлинно навязчивой, — заработать много денег. Он никак не ожидал, что путь к большим деньгам лежит через адски тяжелый труд: никогда прежде ему не приходилось так упорно, без роздыха и срока, работать. Другие же парни не видели в таком труде ничего особенного.
... Что касается первой части плана — скрыться, уйти от правосудия, то с самого начала везло ему редкостно.
Зарекомендовав себя на стройке народного хозяйства с самой лучшей стороны, Ольшевский уже в первый месяц попал в список так называемых «благонадежных» — тех, кого комендатура, в виде поощрения, отпускала с работ на субботу и воскресенье. Мера эта была гуманная, своеобразный аванс: условно осужденным разрешалось съездить домой, навестить семью, если таковая имелась.
Ольшевский, а к нему начальник комендатуры, капитан Столбов, питал слабость как к способному художнику, выехал из их партии в числе первых. Столбов отпустил его даже не в субботу, а в пятницу, после обеда.
К десяти вечера короткостриженый, скромно одетый парень покрыл на поезде двухсоткилометровое расстояние, отделявшее небольшой районный городок, где располагалось рабочее поселение, от крупного областного центра — родины Ольшевского. Домой он не поехал: из однокомнатной квартиры, оставшейся ему после смерти бабушки, Костя был выписан особым постановлением суда, нынче ее занимали чужие люди. Единственным местом, куда путь ему заказан не был, оставалось Ольгино — пригород, связанный с вокзалом автобусным сообщением. Стемнело, когда Ольшевский по глинистой тропке прошел к одному из деревянных домиков, ютившихся на отшибе Оль-гино, почти в лесу. В домике горел свет, и но занавескам сновали тени, но внутрь заходить он не стал, а обошел усадьбу сбоку и приблизился к сараю, откуда, из-за неплотно притворенной двери, доносилась негромкая музыка. Ольшевский минуту-другую постоял, прислушиваясь. Затем, недобро усмехнувшись, потянул дверь на себя и тихо шагнул внутрь.
Все здесь, знакомо до мелочей, осталось без изменений. С потолка свисал все тот же голый шнур с самодельным абажуром; те же кукольные красотки смотрели с приколотых к стене журнальных вырезок, на прежних местах стояла дрянная мебель — видавший виды стол и продырявленный, расползающийся диван, на котором в знакомой позе лежал все тот же Альберт.
Увидев перед собой как с луны свалившегося Ольшевского, тот оторопел, привстал на своем жалком ложе. Он от рождения заикался, теперь, волнуясь, слова не мог вымолвить.
— Что, не ждал? — угрожающе процедил Костя. Он мигом смекнул, что испуг дружка окажется ему на руку.
— Т-ты как здесь ок-казался? Неужто — сбежал? — лоб Альберта покрылся испариной.
— Много будешь знать — не дадут состариться,— веско и с намеком отрезал Костя. — Пожрать есть что-нибудь?
— Только сало.
—Давай! — он принялся за хлеб с салом, обмакивая в соль перья зеленого лука. Молча прикидывал, на сколько ему «расколоть» бывшего приятеля.
— Где мои документы? — насытившись, отрывисто спросил он.
Альберт, радуясь, что немедленная расправа отложена, а, может, и вовсе минует его, метнулся в угол сарая и извлек из-за лоскутка обоев пакет, завернутый в тряпицу.
Все было в полном порядке: паспорт, военный билет, трудовая книжка.
Ольшевский еще раз возблагодарил свою предусмотрительность: несколько месяцев назад, направляясь на «дело», он, как бы по наитию свыше, документы оставил не дома, а припрятал их у дружка, на перевалочной, как оба тогда говорили, базе. В случае успеха операция сулила солидные барыши. Все, однако, сразу же расползлось по швам: Альберт в критическую минуту струсил, а Костя, решивший действовать в одиночку, оказался за решеткой и срок схлопотал немалый —три года. Позже, правда, его бумаги пересмотрели и сочли возможным направить Ольшевского па стройку народного хозяйства.
Знать, однако, Альберту обо всем этом было ненужно: сговорчивее будет.
— И на свидание, гад, даже не пришел,— вспомнив недавнюю обиду, выругался Костя.
Альберт хотел было соврать, как заранее приготовился, что у него, мол, зуб тогда разболелся, но Костя так глянул на дружка, что тот уныло опустил голову.
— Мог бы я, конечно, по-другому поговорить с тобой, — продолжал Костя, — но — некогда. Мне нужны деньги. Пятьсот рублей.
Круглые глаза Альберта едва не вылезли из орбит: такой суммы он и в руках-то не держал.
— Спятил ты, что ли?
— Сколько у тебя? — смягчился Костя, поняв неумеренность своих притязаний.
— Сотня, вроде, есть, но...
— Годится!—оборвал его Ольшевский. Тащи!
И Альберт, чуть не плача, проклиная себя за дурацкую откровенность (мог ведь сказать, что ни рубля — и дело с концом), вынужден был снова запустить руку в мышиную дыру, откуда недавно извлек костимы документы. Сверток на этот раз был в виде тугой трубочки, опоясанной бечевкой.
Альберт намеревался развязать его, но Ольшевский выхватил из рук сверток, содрал бечевку, пересчитал смятые пятерки и трешки — сто тридцать восемь рублей.
Незадачливому дружку было жаль денег: он долго собирал их на мотороллер и уже договорился насчет аванса с соседом, продававшим подержаный «Старт». Теперь по своей же глупости он разом лишился с таким трудом накопленной суммы.
— Не скули, — коротко сказал Ольшевский.— Мы— квиты... Да, вот еще что. Дай-ка мне свою зеленую куртку, а то в этом, — он оттянул в стороны края клетчатого пиджака, — меня первый же попавшийся мент возьмет за шкирку.
...В двадцать три с минутами, успев на ольгинском кольце вскочить в последний автобус, Ольшевский возвратился в город; в час ночи сел на проходящий московский поезд; утром, в субботу, был в столице, а вечером того же дня оказался за тысячи верст от родных мест, в Находке, портовом городе, о котором в камере следственного изолятора ему поведал бывший рыбак, угодивший в беду за пьяную драку.
— Восток ты Дальний, — напевал матрос,—
Край богатый, деньги там гребут лопатой!
Костя, а он тогда еще не знал, во сколько лет ему обойдется неудавшаяся «операция», тем не менее с жадным любопытством, удивлявшим его самого, выслушивал восторженные байки рыбака, по словам которого в Находке было нечто вроде земного рая.
Вспомнил уже потом, на поселении. В новом для него свете предстала и утайка документов, словно бы он заранее все предусмотрел, соврав в милиции, что потерял их, А они, чистенькие, без единой компрометирующей помарочки, легли в понедельник— третий день его бегства — на стол начальника отдела кадров управления активного морского рыболовства города-порта.
Время было осеннее, многие рыбаки просились в отгулы, и надо было пополнять составы промысловых судов. Начальник ОК, не имея никаких причин поступить иначе, подмахнул заявление.
Часа через четыре, выполнив необходимые формальности и пройдя медкомиссию, матрос Константин Ольшевский числился уже в списках экипажа траулера «Марк Решетников», проходящего профилактический ремонт.
Куковать бы вместе с ним в порту и Ольшевскому месяца полтора, не окажи ему и на этот раз услугу все то же умение обращаться с карандашом и кистью. Многие другие парни порой месяцами ждали отплытия; Ольшевский же, волей случая, на пятые сутки после побега оказался в открытом море. Правда, ему пришлось изрядно поволноваться перед отходом, когда пограничники проверяли документы команды «Тернея». Но и это осталось позади, пронесло.
В том, что все шло как по маслу, парень видел доброе предзнаменование: значит, он был прав, убежав со строек! И вообще, если бы не дурацкая случайность, подставившая ему подножку, он и в тюрьму бы не
загремел.
Его терзало не раскаяние в совершенном проступке, а собственная невезучесть. Авария, больница, следственный изолятор, а затем и суд — он воспринимал все это как обидную несправедливость. Ее могло бы и не быть, окажись он немного более удачливым.
И все же — удачный побег и сказочно быстрый отход в море давали ему новый шанс поспорить с судьбой. Комендатура стройки, рассудил он, раньше как через неделю разыскивать его не станет. Кому придет в голову, что беглец может оказаться, причем, в буквальном смысле, на другом конце света? Да и потом, не такой уж Ольшевский опасный преступник, чтобы ради него подавать на всесоюзный розыск. Пропал и пропал, как в воду канул. Основное— зарубил он себе на носу — впредь не попадаться, тогда уж хвост накрутят по-серьезному!
В морях он вновь мог наверстать упущенную возможность заработать много денег и осуществить, наконец, заветную мечту: добившись материальной независимости, заняться любимым искусством.
Однако первый же месяц на промысле показал, насколько жестоко он заблуждался. Окунь шел тоннами, работы было по горло, а в расчетной книжке, даже приплюсовав оплату за изготовленные им трафареты, появилось немногим более трехсот рублей.
Правда, в числе прочих он пожертвовал пятьдесят рублей семье погибшего на соседнем траулере моряка — подписной лист с начала путины лежал в столовой, но помощь — закон морской взаимовыручки, — не в счет, это святое дело. Тем же заработком, о котором мечтал Ольшевский, не пахло. Триста — это было еще хорошо. Как объяснили опытные матросы-асы рыбалки, окунь, который они сейчас обрабатывали, стоил несравнимо больше, нежели камбала или, скажем, минтай, расценки на которые были чуть ли не вдвое ниже.
Рыбу надо было изловить, прошкерить, заморозить, упаковать в ящики, затем перегрузить на транспортный рефрижератор... «Стоит ли игра свеч? — тосковал Ольшевский.— Может, вернуться на берег, да податься на золотые прииски? Авось, там повезет больше...»