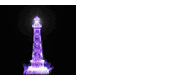Семь футов под килем - 22
- Опубликовано: 05.01.2013, 08:37
- Просмотров: 333332
Содержание материала
То, что я так спокойно рассуждаю о своем, прямо сказать, безобразном отношении к работе, никоим образом еще не означает, что я — халтурщик. Легко, конечно, рубить с плеча, да навешивать бирки. А я, быть может, несчастнейший из смертных — забыл уж у какого беллетриста я подцепил это понравившееся мне выражение. Да, несчастнейший, ведь то, что происходит со мной в море—тянется, в разных вариантах, уже много лет. Говорю это я не для красного словца, а имея на то предостаточные основания. Вот, к примеру, только два из них.
Случай первый. Имевший на меня прямо-таки мистическое воздействие.
Не могу сказать в точности, сколько мне тогда было лет — одиннадцать или больше,— помню лишь четко, что дело происходило ранней осенью, вечером, в пору бабьего лета, когда дни легки и звонки, а мягкие вкрадчивые сумерки еще не несут с собой холод. Родители не спешили зазывать нас по домам.
Пользуясь сгущавшейся темнотой, а она придавала игре особую таинственность, прокрадывались мы и ползли по-пластунски к установленному месту. В моей памяти навсегда с тех пор остался запах вялой, осенне-дряблой, уже засыхающей травы и глубинного, влажного холода, идущего, казалось, из самых недр остывающей земли.
Чтобы не быть «застуканным» первым, тогда пришлось бы водить следующий раз, я перелезал через забор и прятался в соседнем саду в зарослях репейника. Вымахивал он за лето в рост человека.
Прильнув к щели между занозистыми досками, я следил, как, прокричав «раз, два, три, четыре, пять — я иду искать», мой сверстник отвернулся от стены, но далеко не отходил, хитрец, боясь что кто-нибудь выбежит из ближних кустов.
Пританцовывая от нетерпения, я ждал момента, когда можно будет перемахнуть через забор и опрометью броситься к заповедному месту. «Сейчас, сейчас, — осаживал я себя, — пусть только ведущий отойдет. Еще немного и...» И вдруг, перекрыв шум улицы, во мне явственно прозвучал некий голос: «Стой, не суетись!» Это было так неожиданно, что я замер, притих у своего забора. Совершенно сбитый с толку, дальнейшего я ждал с невольным испугом. Но прошла минута-другая томительного ожидания — ничего не произошло. Быстро серело небо, ветер шумел в верхушках деревьев, а внизу громко спорили игроки, кто кого первый «застукал». А с моих глаз словно пелена какая-то спала.
С непонятным, удивлявшим меня самого пристальным вниманием глядел я на своих друзей в просвет между досками. Всех их, вместе и по одиночке, видел я десятки раз прежде, но почему-то именно в эту минуту мне пришла в голову очень странная мысль, что вот ведь как поразительно получается: я и мои сверстники — совершенно разные, оказывается, люди, каждый со своими наклонностями, характером, привычками. Сейчас мы играем вместе, но окончится игра, разойдемся и всякий займется каким-то споим занятием, будет что-то свое ждать и свое искать в жизни. Долго я тогда стоял за забором, силясь разобраться в смутных ощущениях. Так ничего не решив, вернулся в игру. Никто даже не заметил моего отсутствия...
Я не собираюсь «наклепывать» на себя, дескать, тот эпизод раскрыл мне глаза на действительность и именно с тех пор я стал задумываться над своим будущим. Ничего подобного. О странном случае я забыл уже на утро и вспомнил года через три, после окончания восьмого класса, когда передо мной встал вопрос о выборе профессии. Впрочем, ошибаюсь. Я как-то рассказал об этом бабушке. Она, как я и думал, выслушала меня очень серьезно, поняла и сказала, что у каждого человека бывает два дня рождения. Одно из них, первое — это рождение физическое...
Но это уже из другой оперы... Я никогда не понимал людей, которые уверяют, что уже в четырнадцать лет твердо знали, кем хотят быть. Для меня моя будущая профессия не только после восьмого класса, но и много позже продолжала оставаться книгой за семью печатями. В мечтах я перебывал и геологом, и моряком, и космонавтом, зная в общих чертах, чем занимаются многие другие специалисты, но ни одному из этих занятий я не хотел бы посвятить свою жизнь. Со временем это превратилось в наваждение--я не мог определить свое призвание. И в то же время меня отнюдь не прельщала и перспектива полной свободы, в условиях которой подростки и их подруги могли хоть до утра торчать в подъездах с гитарами, обкуриваясь и ведя препустейшие разговоры о возникающих и лопающихся как грибы-дождевики эстрадных рок-группах, о драках, непонимании «предков». Пооколачивался, конечно, в таких компашках и я, не без этого, но мне там, честно говоря, тоже было скучно.
Имелось, правда, одно дело, не дело, а так — времяпрепровождение, занимаясь которым я забывал обо всем. Сколько помню себя, я любил рисовать. Но кто не рисует в детстве?! Когда я стал постарше, к этому занятию в нашей семье стали относиться как к затянувшейся инфантильности. Особенно был склонен к поучениям отец.
Как сейчас, вижу его лицо с характерно припухшими глазами, которым он старается придать глубокомысленное выражение. Кучерявые черные волосы расчесаны по-купечески, цвет лица — постоянно розоватый. Но это не от болезни и, упаси бог, не от алкоголя. Отец им никогда не злоупотреблял, а кажущийся здоровый вид — следствие многолетнего однообразного пищевого рациона, который отец, однако, считает не только идеальным, но даже — предметом зависти окружающих.
Перебрав мои рисунки, случайно попавшиеся ему иод руку, отец надувает, по обычаю, щеки, испускает звук «пф-ф» и цедит лениво:
— Это вот здорово изображено. Потешно!.. Но только напрасно ты себе голову забиваешь этой чепухой. Рисуночками, милый друг, да карикатурами разными не прокормишься. Это не ремесло для мужика. Возьми хоть меня — всю жизнь рубщик мяса...
От этого слова я всякий раз вздрагивал, потому что с первого класса за мной плелись клички: «мясник», «свиное ухо», а то и совсем обидное «субпродукт», которое пацаны, напевая, расшифровывали так: «Ухо, горло, нос, лапка, ноготь, хвост».
Отец, проницательно всмотревшись в меня, ухмылялся:
— Что ежишься? Мальчишки, поди, смеются? А ты наплюй на их насмешки. Они ведь еще глупые. Вырастут — поймут, что к чему... Эх, дорогой ты мой, да будь человек хоть семи пядей во лбу, без брюха он жить не может. Л чего любое брюхо хочет? Мясца оно хочет. А кто ему его даст? Я дам — мясник! А ты говоришь — презирают... Хочешь, случай расскажу. Повадился тут ко мне в магазин один тип ходить. При галстуке, шляпе, обходительный. Мы с ним и про футбол, и про погоду. Полное взаимное уважение. И он от меня постоянно получает продукт — высшей марки. Только как-то однажды встречаю я его на улице. Знакомый мой с приятелем вышагивает. Такие, знаешь, по внешности, два спинозы, ну, прямо за версту от них неразрезанной энциклопедией несет. Сходимся, я свою кепчонку с головы дерг и здороваюсь по-простецки. А тот? Смотрит на мё"-ня, как на муху какую, в упор не видит, так и прошел мимо, не потрудившись даже кивнуть. Я побрел дальше как оплеванный, а злость в сердце развел — утонуть можно. Ладно... На третий день, глядь, мой знакомый вновь у прилавка крутится. Шляпу приподнимает, улыбается; сахар, а не человек. Хотел было я его отбрить, как водится среди мужиков, да вовремя одумался, сделал в ответ умильную улыбочку: мол, ах «здрасте, здрасте, такая, дескать, радость вновь видеть вас в магазине». Беседую с ним эдаким приятным манером, а сам в сверток вместе с хорошим куском мяса незаметно лютый мосол заворачиваю. Веса страшнейшего, а пользы от него даже и в супе — как от козла молока. Знакомец мой, привыкший, что я с ним прежде по-честному обходился, доверчиво уплатил по чеку, принял, не разворачивая, сверток, ушел. Я думал — явится назад с руганью и проклятиями. Но нет. Ни в тот день, ни после, он в магазин больше не заявлялся. Так-то, сынок...
Ты вот взрослеешь у меня. Послушай от: ца, я жизнь прожил, плохого тебе не пожелаю; профессию надо выбирать с умом, практическую, такую, которая людям все гда будет потребна. Завод — это, конечно, хорошо, но там «навару» нет, железо глодать не будешь! Ты бы вот пригляделся к моей работенке. Понравится — я тебя учеником возьму, а со временем и вовсе место передам. Спасибо потом скажешь. Не хочешь рубщиком мяса, учись, скажем, на парикмахера, или па портного — тоже профессии первый сорт. Завсегда будешь иметь верный кусок хлеба. А еще лучше — поступай-ка на зубного техника. Тут уж не только на маслице, но и на икорку себе заработаешь...
При этих увещеваниях отца — а его довольно часто тянуло на душеспасительные беседы - я сидел с удрученным видом. Меня, к сожалению, не прельщали профессии ни мясника, ни портного, не радовала и перспектива ковыряться в чьих-то вставных зубах.
Это было каким-то проклятием — невозможность наполнить свой досуг трудом и смыслом. Наслушавшись речей отца, я с отвращением рвал свои альбомы. Помогало это мало. Но никакого другого дела, которое было бы мне но душе, я не находил. Так тянулось несколько долгих лет... Меня все сильнее тянули к себе карандаш и кисть. И когда на меня время от времени «накатывало», как сегодня, я забывал обо всем на свете...»