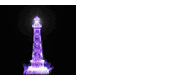Обратный адрес - океан - 32
- Опубликовано: 05.03.2014, 08:27
- Просмотров: 255791
Содержание материала
Подводная лодка
8ма рта
Натуся!
С Восьмым марта тебя! С праздником!
Вот что значит привычка: меня тянет к этому листу. И я уже совсем не чувствую, что это письма. Никакой ус-ловности — просто острая необходимость пообщаться таким образом с тобой, излить душу. Кроме того, эти письма, как вехи, отметины, по ним можно вести счисление дней, которые сливаются здесь и сплошной, замкнутый крут.
Сегодня какой-то странный, бесцветный день, словно мы все не с той ноги встали. В кают-компании во время обеда, как на поминках, — только ножи да вилки стучали по тарелкам. Вестовой, как тень: появится — исчезнет, появится — исчезнет. Тоска даже от излишне четких его движений. Штатный наш остряк, механик, проглотил соб-ственный язык. Командир не допил компот, встал: «Приятного аппетита, товарищи офицеры!» —и ушел в свою каюту. Когда дверь отсека за ним закрылась, мне показалось, что даже рычаг кремальеры повернулся как-то сердито.
«Восьмое марта, — сказал Сотников, — ничего не попишешь». Стальной человек наш старпом, все у него по инструкции, даже, по-моему, настроение. А в каюте — два наследника, «два галчонка», на фотографии. Говорят, ожидается третий. Стальной, стальной человек, только глаза провалились... И вздыхает не стесняясь.
Вот даже и Сотников сдает. Это нам мстит океан, по которому мы позволяем себе разгуливать сколько хотим. Это нам мстит замкнутое пространство, потому что человеку нужно небо над головой, земля под ногами и дали до горизонта вокруг. Кажется, Генри утверждал: «Если вы хотите поощрить ремесло человекоубийства, заприте двух человек в хижине восемнадцать на двадцать футов — человеческая натура этого не выдержит». А мы выдерживаем, и ничего. Хотя случаются «мелочи».
Вчера на моих глазах Удальцов подошел к магнитофону и выключил музыку. А слушали человек десять. Подошел, выключил, и все. Ни у кого не спросил. Матросы переглянулись — и уступили. Никто не встал, не возразил, не завелся. Уступили. Десять человек одному. Самое трудное и самое прекрасное в наших условиях — уметь уступать друг другу. Постараться друг друга понять, вылезти из собственного «я», отделиться от него.
Это был очень тонкий психолог, который придумал, чтобы в минуту вспышки люди, прежде чем совершить действие, досчитывали до ста!
Вот такая проблема, Натуся, потому что человек везде остается человеком. Одинаковые характеры могут быть только у роботов, а человек и через тысячу лет останется загадкой сам для себя. Опять сегодня читал записки Нансена. Два друга — он и его помощник Иогансен — почти полтора года добирались до Земли Франца-Иосифа, когда их корабль вмерз во льды. Вдвоем по безмолвной пустыне. Питались сырым моржовым мясом, под рубахой разогревали фляги со снегом, чтобы напиться. Но самое тяжелое испытание, которого они не вынесли, — общение друг с другом. Они почти перестали разговаривать. К концу пути лишь раз в неделю обменивались лаконичными официальными фразами: «Господин пачальник экспедиции» или «Господин главный штурман». Они возненавидели друг друга и снова помирились лишь тогда, когда вернулись на Большую землю. Никто — а главное, они сами — так и не мог объяснить причину разлада...
Это два друга, два полярника, мужественные, сильные духом люди. А я думаю: что, если вот так проверить однажды любовь? Взять и послать двух любящих через Северный полюс! Ну послали бы нас с тобой, а, Натусь? Пошла бы? Представляешь, сколько времени мы были бы наконец-то вместе, и только вдвоем! Зачем мне нужен комфорт нашей лодки? Пусть трещат морозы, пусть беснуются вьюги! Я бы пронес тебя через все торосы на руках, только бы ты была со мной!..
Совместимость... В тот раз в столовой личного состава я отвел потихоньку в сторону Удальцова и спросил, почему он так поступил. Удальцов извинился, а потом опустил голову и говорит: «Устал я, товарищ капитан-лейтенант».
Устал. Конечно. Если честно, мы все устали. И то, что человек признался, я думаю, не унижает, а только возвышает его. Гораздо хуже, если матрос прикинется бодрячком — наверняка произойдет какой-нибудь срыв в несе-нии вахты. Удальцов — наши лучшие «уши». Ему притворяться нельзя. Между прочим, у него на носу высыпали веснушки — это под водой! Но хочет природа поддаваться. Весна наверху! «У вас веснушки, — говорю Удальцову. — Нехорошо, товарищ матрос, демаскируете скрытность похода». Он довольно кисло улыбнулся, но улыбнулся. Понял. А что я мог еще ему сказать?
Сижу в каюте, смотрю на вас с Вовкой. А какие вы на самом деле, уж не могу вспомнить. Все, что было, кажется, было не со мной, а с кем-то другим. А я был при сем просто свидетелем, среди вас, наблюдавшим за счастьем других.
Да, действительно, не надо распускать чувств.
Поселок Скальный
11 март а
Здравствуй, Кирилл!
Вот и прошло долгожданное Восьмое марта. Никуда не ходила, весь вечер проторчали с Вовкой у телевизора.
Но март есть март, и сегодня повеяло весной... Весна идет, идет, несмотря ни на что! Вышли с Вовкой погулять, а вокруг пахнет мокрым снегом, как когда-то в Ап-релевкс. Весна-то оттуда! И голова закружилась от воспоминаний: шум весенней воды в ручьях, обязательно провалишься куда-нибудь, вымокнешь, и хоть бы что — ни насморка, ни кашля... А сейчас иду закутанная, как гагара, спрятала нос в воротник, иду и пугаю весну. Какое тут все робкое, жалкое— я имею в виду природу. И кто это выдумал, что она здесь суровая, мужественная? Морозные ветры до костей пробирают каждое дерево, каждый кустик. Ты замечал, что кустарник тут словно подстрижен «под бобрик» на уровне снежного покрова? А деревья смотрят в одну сторону. Правда, кроны у них — как флаги на мачтах?
Вчера произошла неожиданная встреча. Представь себе, в Скальный приехала жена лейтенанта Курилова. И надо же, именно мне выпало с ней столкнуться! В нашем городке незнакомого человека отличишь за километр. Иду я по улице после магазинных дел, смотрю, навстречу девушка в экстрамодном пальто, каком-то сине-полосатом. А в руке — не по фигуре — тяжеленный кожаный чемодан. И помада на губах не наша, не военторговская. А на лицо — милашка. «Как пройти в штаб?» — спрашивает. «А вы к кому?» — «К лейтенанту Курилову!»
К лейтенанту Курилову, видите ли, словно мы обязаны его знать, словно он уже командует флотом.
Что делать? Что может быть нелепее — приехала к мужу, почти еще жениху, по собственному его вызову, а он в море. И главное, она никак не могла понять, что у нас такое бывает сплошь и рядом.
Комнату им дали Сорокинскую — тот уехал в академию, — но не подготовили, потому как никто не предполагал, что жена заявится без мужа. Да и как без Курилова такие дела решать?
Потащила я Любу (ее зовут Люба) к себе. Господи, как это все знакомо! А она только порог перешагнула, только чемодан поставила — и в слезы. Держалась, значит, все время, на людях не хотела слабость показывать. «Эх ты, горе мое! — думаю.—Поплачь, поплачь, прими купель нашу соленую». Успокоила как могла, приголубила.
Отлегло у бедной, Вовка ее растормошил. И совсем повеселела, когда узнала, что ее ненаглядный с тобой на одной лодке служит. Начала расспрашивать, что да как. А что я могла ей сказать? Я же ничего не знаю, и все мое участие в твоих походах ограничивается чемо-данчиком, который собираю тебе в дорогу. Твоя лодка — твое государство, куда мне закрыта дорога, и твоя служба — это твой мир, твоя планета, куда мне никогда не долететь! Единственно, в чем я авторитетно просветила Любу, так это в том, что на подводных лодках даже кашу варят мужчины. Моя популярная лекция на военно-морскую тему, кажется, только прибавила жалости к ее бедному лейтенанту.
Эх, жизнь! Все повторяется. Разве совсем еще недавно и — ох как давно! — я не была такой? Разве не удивилась я в тот самый первый твой поход, что военных моряков не принято, а попросту — запрещено, встречать на пирсе? «И даже издалека нельзя?» — спросила Люба. Она еще не знает законов военного моря.
Я, конечно, рисовалась хорохорилась, изображала эдакую просоленную морячку и ловила себя на мысли, что подражаю Аннес Аркадьевне. Но как я могла себя вести иначе?
Рассказать ей о том, что белопарусные фрегаты несутся навстречу любви только в книжках? Что в конце концов романтика превращается в быт, а быт — в сплошное ожидание? Что корабли и море достаются вам, мужчинам, и вы, по скупости, никогда не делитесь с нами? О чем ей было рассказать? О том, как вот уже пятый год ловлю за дверью твои шаги, как разговариваю с тобой вот над этим немым листом бумаги, как чуть с ума не сошла при мысли, что с вами может произойти то же самое, что с «Трешером»?
Не могла я раскрыть ей свою душу, не могла, потому что у нее перед глазами плывут алые паруса, как когда-то плыли передо мной. Не могла я признаться ей, восторженной, безоблачной, что каждая разлука, ожидающая ее впереди, — суровый, труднейший экзамен, куда посложнее тех, государственных, которые она так блестяще сдала в Тимирязевке. Не имела я права по всем законам морей сказать ей, признаться, что таких экзаменов — на любовь, на верность, на честь — я сдала так много, что совсем обессилела и не знаю, как протяну оставшиеся дни.
Мы сидели с Любой долго, до глубокой «ночи». Я говорила ей о том, как это прекрасно — ждать моряка, как нелегко вам в трудном походе, как наша любовь согревает ваши сердца, наполняет мужеством. Я говорила ей о том, что и между нами, женщинами, заключен военно-морской союз, сближающий нас, роднящий нас с морем. Это оно роднит нас, и перед ним даем мы обет любви и верности, и наша жизнь на берегу — это та же служба, то же служение Родине.
Вот как я ее просвещала. Не просвещала, а посвящала в морячки. А у самой сердце разрывалось.
Предлагала я ей пожить у нас до вашего возвращения, но куда там! Как только узнала, что комната готова, скорее-скорее под свою собственную крышу.
Как все это попятно! Ты даже не можешь себе представить! Полетела пуночка вить свое гнездо! Почему же мне от этого не радостно? Почему грустно смотреть на это гнездышко с первыми травинками, перышками, такое хрупкое, висящее на гранитной скале над бездной.
Будь же счастлива, пуночка! Не разбейся!