СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ВОЙНЫ Часть 2
- Опубликовано: 20.08.2025, 07:05
- Просмотров: 4144
Содержание материала
Война в странах третьего мира
Часть 2
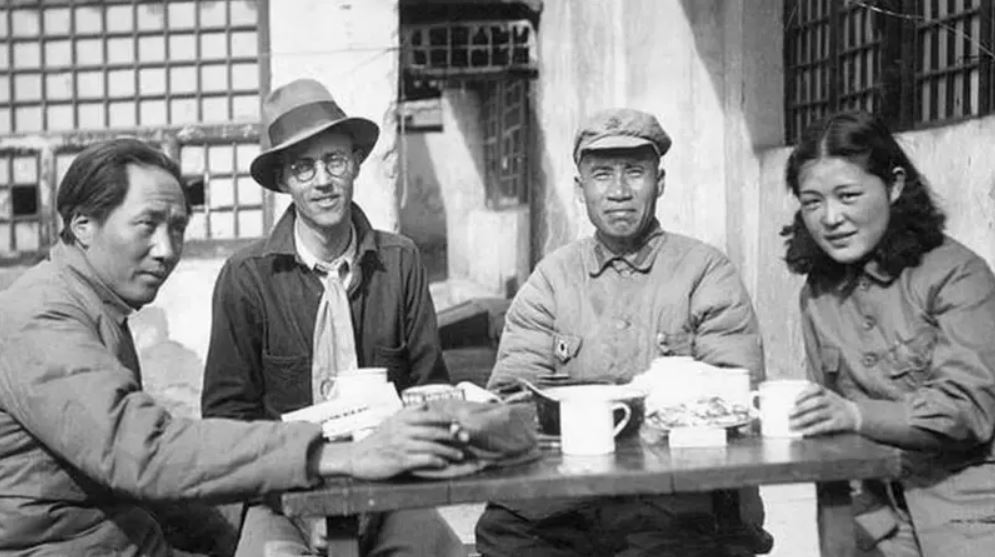
Мао Цзэдун (слева) в первые дни своей партизанской войны. Он – отец всех послевоенных повстанческих движений.
Методы и тактика партизанской войны, вероятно, являются старейшими формами ведения войны, известными человечеству, но применение этих форм и контекст, в котором они действовали в течение последних лет, придают партизанской войне элементы новизны. В прошлом партизанская война использовалась как одно из средств борьбы между странами (испанцы и русские против Наполеона; французы в 1871 году против немцев), но с 1945 года она стала методом ведения и разрешения внутренних политических споров.
С 1945 года всё чаще применяется революционная партизанская война — метод партизанской войны, применяемый для достижения революционных целей, особенно в контексте национального освобождения колоний. Учитывая советскую концепцию «мирного сосуществования» (уничтожение западного капиталистического общества любыми методами, кроме войны), национально-освободительные войны будут продолжаться, несмотря на отсутствие колониальных режимов, а их целью будут правительства стран, выступающих против коммунизма.
Концепции революционной партизанской войны представляют собой синтез трудов различных политических и военных авторов, а также практического опыта, трудов и примеров разных личностей, в частности, лидера крупнейшей в истории подобной кампании Мао Цзэдуна. Мао опирался на свой тяжкий опыт работы в Китае, труды таких военных аналитиков, как Суньцзы, Клаузевиц, Т. Э. Лоуренс, и свою интерпретацию марксизма-ленинизма – простой и понятной концепции войны, которую он объяснял и внушал своим коллегам. По сути, он предоставил руководство для самостоятельного использования, которое, благодаря упорной и непоколебимой преданности своей модели, он наконец-то заработал в 1949 году. Своим успехом он побудил к подражанию, и подобно тому, как российская модель революции стала общепринятым методом после её успеха в 1917 году, так и маоистская модель стала общепринятой после 1949 года.

Мао выступает с речью в Канта, военно-политическом колледже китайского народа, выступавшем против японских захватчиков. Его труды и пропагандистские материалы сейчас широко переводятся, и, несмотря на обширное чтение, они дают представление о планировании, терпении и безжалостной энергии, которые двигали китайской коммунистической революцией. Другие революционеры использовали его имя и некоторые его идеи в своих собственных битвах.
Мао Цзэдун разработал стратегию, основанную на партизанской войне, которая позволила слаборазвитому и примитивному обществу, не имевшему современного оружия и техники, принять воинствующую политическую философию, основанную на вооружённой борьбе. Исходя из этой фундаментальной предпосылки, Мао разработал военную доктрину, которая позволила отсталому обществу, такому как Китай, занять определённую политическую позицию и организовать сопротивление даже при столкновении с превосходящими в военном отношении силами высокоиндустриального государства, что и обусловило её неизменную актуальность. Естественно, в этом контексте Мао оценивал военный потенциал по стандартам, весьма отличным от западных, даже советских, норм.


Оружие и люди в Дьенбьенфу. Французские и колониальные войска были хорошо оснащены американскими 105-мм орудиями и лёгкими танками...

Но, хотя их парашютисты имели современное оружие, они были плохо подготовлены к артиллерии Viet Mint*.
*Вьетминь— общепринятое и сокращённое название Лиги независимости Вьетнама.

Солдаты Viet Mint были высоко мотивированы, стойкие и руководимые эффективными политическими офицерами, которые понимали, что, хотя они могут понести тяжёлые потери, они более чем приемлемы, если им удастся одержать победу к началу Женевских мирных переговоров.
На Западе военная эффективность в основном приравнивается к системам вооружения, логистике и обученной рабочей силе; Мао, столкнувшись с отсутствием этих трёх факторов, утверждал, что революционная военная эффективность должна измеряться политическими терминами. Принимая войну как форму политики и что революционная война не что иное, как политика, Мао утверждал, что военные факторы всегда должны быть подчинены идеологическим явлениям. Таким образом, он отодвинул чисто военные соображения на задний план или, точнее, поставил их в зависимость от политических факторов. Внимательное прочтение «Затяжной войны» и «Стратегии в партизанской войне против японских захватчиков» показывает, что для Мао решающими факторами в войне являются воля (политическая мораль общества), время (которое истощит превосходящие ресурсы развитого общества) и пространство (необходимое для эксплуатации времени и воли).
Таким образом, если подвести итог трудам Мао, единственный шанс революционера победить превосходящего противника заключается в его способности увеличить население. Как только это достигнуто, пространство и рабочая сила дают время. Время было уравнивающим фактором между сторонами, поскольку (он писал о Японии) «... несмотря на... промышленный прогресс... ее рабочая сила, ее сырье и ее финансовые ресурсы неадекватны и недостаточны, чтобы поддерживать ее в затяжной войне или соответствовать ситуации, представленной войной, ведущейся на обширной территории». Мао понимал необходимость для индустриального общества быстро форсировать события: его намерением в партизанской войне было избежать решения, гарантируя, что тактический успех противника не сможет быть преобразован в стратегическую победу. Тем самым он затянул войну до точки, когда она стала политически и экономически неприемлемой для противника. Это основа коммунистической веры в окончательную победу в войне, независимо от продолжительности борьбы.
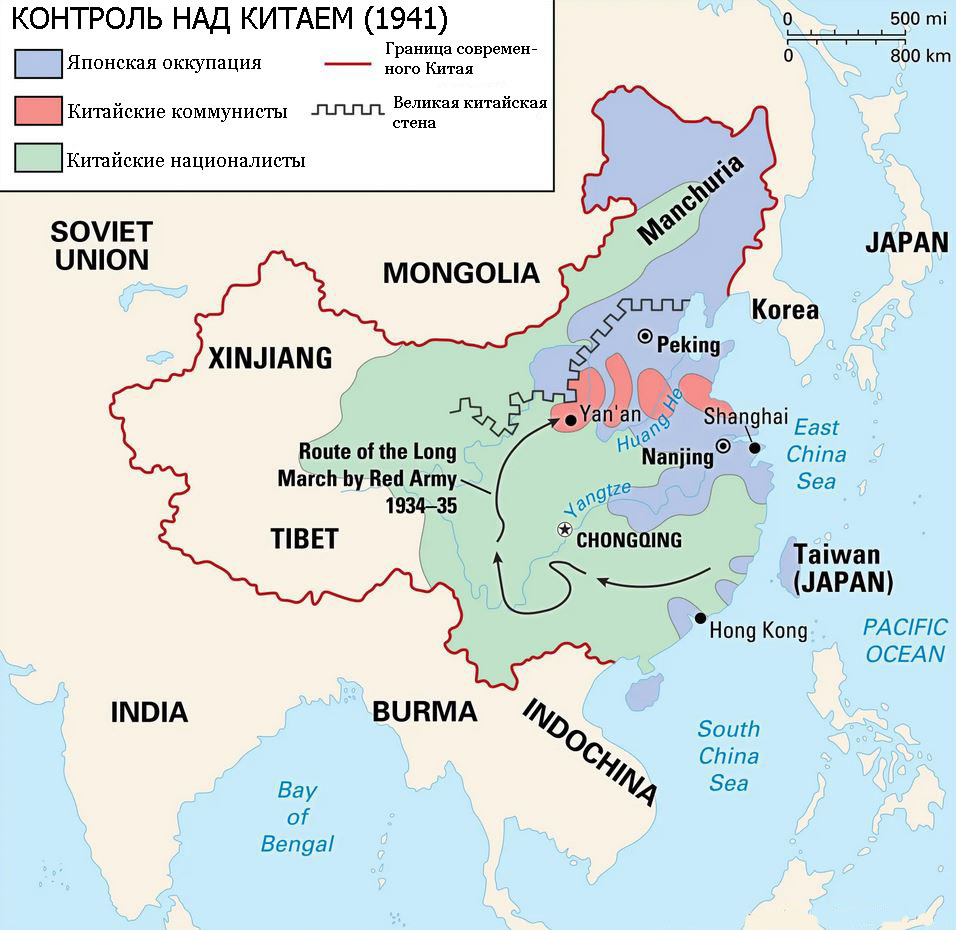
Война на Тихом океане: контролируемые Японией территории Китая. Японцы захватили Маньчжурию в 1931 году и к 1941 году оккупировали большую часть побережья и Северо-Китайской равнины.
Мао рассматривал свою стратегию как последовательность из трёх взаимосвязанных этапов, первым из которых была мобилизация и организация народа для обеспечения окончательных военных действий. На этом первом этапе целью было создание безопасных баз, свободных от внешнего вмешательства, где население можно было бы взять под контроль и в ходе которых можно было бы начать военную подготовку. На этом этапе боевые действия были подчинены идеологической обработке, контролю и организации. Приоритетом было создание местных отрядов самообороны, разведывательных сетей и подготовка регулярных частей. Акцент делался на политические цели, которые будут сочувственно восприняты населением, и на корректном обращении с ним со стороны армии. Мао видел катастрофические последствия безжалостной политики принуждения коммунистов в двадцатые годы, а в тридцатые годы последствия случайного и преднамеренного варварства японцев были очевидны любому, кто хотел это видеть.
Благодаря разумному и справедливому управлению, реформам, мягкому налогообложению можно было добиться народной поддержки; благодаря использованию массовых организаций и популярных лозунгов общество можно было организовать. Благодаря такой регламентации, общество и революционный солдат были неразрывно связаны: то, что в действительности представляло собой постепенный процесс национального восстановления, позволило создать среду (дружелюбное отношение гражданского населения), в которой могла действовать "рыба" (революционный солдат). На втором этапе военные приготовления осуществлялись в форме партизанских действий, направленных на то, чтобы рассеять, парализовать и сломить решимость противника, одновременно накапливая опыт, улучшая организацию и добывая оружие.
Это само по себе было самогенерирующимся процессом, поскольку он брал под контроль новые территории и привлекал больше людей для политической мобилизации. В Северном Китае в период с 1937 по 1945 год коммунистические силы расширили свое присутствие, действуя с одной базы, до контроля над четырнадцатью крупными зонами на территории, удерживаемой японцами. Заключительным этапом затяжной войны стала обычная, или позиционная, война. Партизанская война сама по себе не могла привести к победе, а могла лишь проложить к ней путь. Победа должна была быть достигнута регулярными формированиями, использующими благоприятные условия, достигнутые на первых двух этапах. На последнем этапе поднявшаяся в волнения сельская местность продвигалась к городам, охватывая их. Из этой базовой схемы вытекают два следующих момента. Во-первых, гибкость модели заключалась в том, что весь процесс был обратим при столкновении с препятствием, и цикл возобновлялся. Во-вторых, заключительный этап мог быть сокращен путем переговоров, но только с целью добиться капитуляции: на других этапах они могли быть использованы для получения передышки. Переговоры были средством достижения цели: в таких начинаниях не было никакого элемента доброй воли.
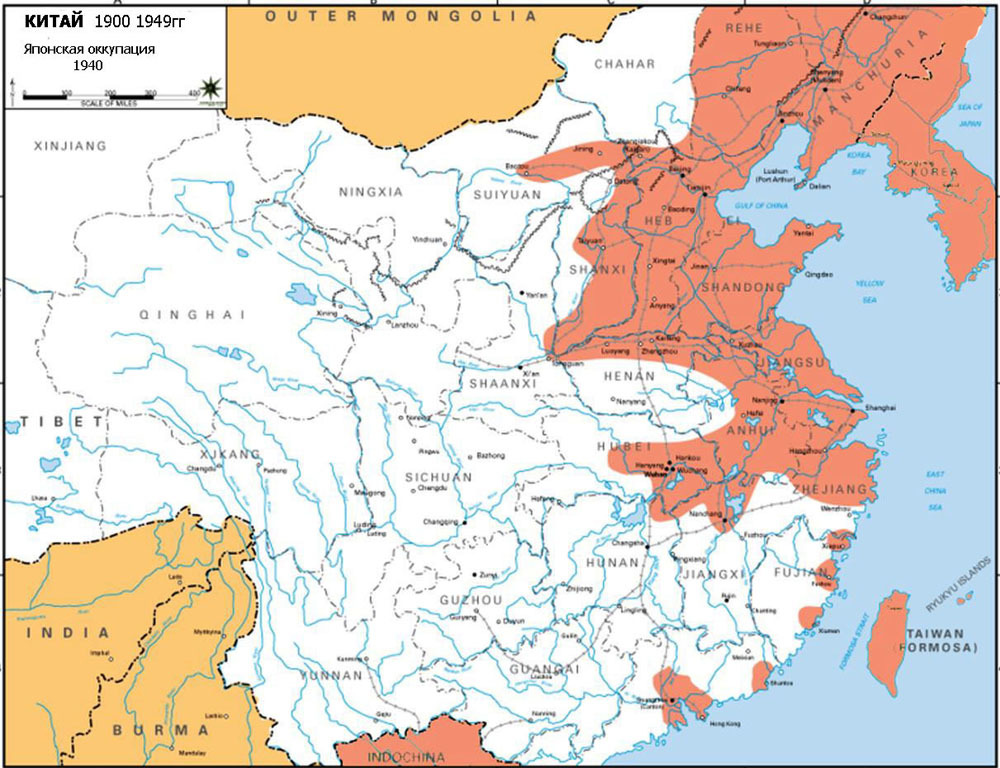
Масштабы японской оккупации в 1940 году (красным)
Концепции Мао сработали достаточно хорошо в Китае, хотя следует отметить, что его успех был обусловлен как недостатками, некомпетентностью и разногласиями в рядах оппозиции, так и силой и мощью коммунистического повстанческого движения. В других регионах они не добились такого успеха, как в Малайе, где сочетание правительственной решимости, строгости, просвещённого управления и обеспечения безопасности позволило сдержать коммунистов. В Малайе нехватка пространства для манёвра, позволяющего избежать поражения, не теряя при этом связи с населением (и, в какой-то степени, контроля над ним), была серьёзным препятствием для повстанцев. Чтобы выжить, когда правительственные контрмеры начали давать о себе знать, коммунистам пришлось отойти от зоны боевых действий – китайских трущоб, выстроившихся вдоль джунглей. Тактика борьбы с повстанцами на этом этапе борьбы заключалась в основном в засадах и интенсивном, длительном патрулировании: целью было контролировать джунгли вокруг населённых пунктов на глубину до пяти часов марша.
Со временем это оказалось весьма успешным, поскольку навыки работы в джунглях сил безопасности улучшились и превзошли навыки повстанцев. Тем не менее, именно нарастающее давление привело к тому, что коммунисты прекратили борьбу в заселённых районах, и здесь британцы прибегли к различным мерам, сохранившимся после обретения независимости в 1957 году. Прежде всего, это было переселение и концентрация населения под пристальным и всё более эффективным надзором полиции. Материальное стимулирование населения (тактическое повышение уровня кампании от борьбы за принуждение к управлению, в которой коммунисты, учитывая их ресурсы, не могли конкурировать), либерализация законов о натурализации и ужесточение программы отказа во всех видах поставок, особенно продовольствия, стали главными мерами, с помощью которых правительство обеспечило себе сначала контроль, а затем и поддержку населения.
К этому следует добавить упорядоченную и чрезвычайно тесную координацию действий администрации, полиции и армии, среди которых полиция, пожалуй, была наиболее важной. Постепенно оправляясь от весьма шаткого старта и наращивая эффективность благодаря притоку нового оружия, средств связи и, прежде всего, рабочей силы (особенно китайской), именно полиция, действуя в рамках постепенно создаваемой армией системы безопасности вокруг деревень, выявляла и уничтожала коммунистов в зоне боевых действий. Это достигалось путём систематической зачистки местности, сначала сосредоточиваясь на наиболее слабых коммунистических районах, а затем переходя к более пострадавшим.
Тем не менее, неудача повстанцев в Малайе — и в таких местах, как Филиппины, — может быть объяснена исключительными местными факторами, такими как изоляция Малайи, тот факт, что повстанческое движение было основано почти исключительно на одной расе, и упущенные возможности 1949 года, которые дали правительству и предостережение, и время для эффективных действий, чтобы помешать победе коммунистов. Поражение 1948–1960 годов можно объяснить тем, что это был лишь первый раунд борьбы, которая продолжается до сих пор, и окончательный исход которой пока неясен. (Кника вышла в 1979 году... admin) Как бы то ни было, маоистские концепции были воплощены в жизнь в различных местах, прежде всего в соседнем Индокитае, где Чыонг Ван Чинь, более известный как Хо Ши Мин, внимательно следил за идеями Мао и его книгой. «Сопротивление победит» стало революционным евангелием Вьетминя в войне против французов 1946–1954 годов. Некоторые изменения были внесены после 1950 года с выходом книги «Освободительная война и Народная армия» главного соратника Хо Ши Мина, В. Н. Зиапа (V.N. Giap).

Зиап (V.N. Giap), генерал Хо Ши Мина, принявший вызов при Дьенбьенфу, увидел слабость французских позиций и уничтожил их безжалостным артиллерийским обстрелом и яростными пехотными атаками.
В. Н. Зиап принял практически все идеи Мао, но изменил заключительный этап, на котором, по его мнению, перед началом решающего наступления необходимо было выполнить четыре условия. Он считал, что повстанческие силы должны были достичь заметного психологического превосходства над противником и быть уверенными в своей способности победить в условиях обычных боевых действий, в то время как наступательный дух во вражеском лагере шёл на спад. Более того, возможно, потому что он действовал в колонии, Зияп считал, что важнейшим условием должна была быть благоприятная международная обстановка или общественный климат. Как в случае с французами, так и с американцами, коммунисты не упускали из виду психологический эффект военных действий, и, действительно, обе кампании характеризовались коварным, подрывающим уверенность психологическим наступлением на территорию противника и его население. В обоих случаях решимость контрповстанцев ослабевала ещё до поражения на поле боя.
Более того, В. Н. Зиап внес свой вклад в практику революционной партизанской войны, преднамеренно и систематически применяя терроризм против населения, не просто для принуждения людей и полного подчинения преступников, но и для подрыва общества, против которого он был направлен. В конце 50-х – начале 60-х годов, используя терроризм, контролируемый Ханоем, Вьетконг в качестве политического инструмента уничтожал сельских старост и правительственных чиновников Южного Вьетнама, чтобы разрушить стабильность общества, которое он стремился подорвать.

Носильщики на велосипедах, подвозившие продовольствие и боеприпасы для солдат и орудий. Без них Вьетминь не смог бы выдержать осаду.
Следствием подобных действий стало то, что во многих районах Южного Вьетнама прекратило своё существование любое другое управление, за исключением Вьетконга, и, в отличие от британцев в Малайе, которым приходилось поддерживать, а затем расширять находившуюся под угрозой, но уже существующую политическую инфраструктуру, южновьетнамцам и американцам пришлось фактически пытаться создать её в условиях проигрышной войны и полной утраты доверия населения к власти Сайгона. Идея использования терроризма, конечно, не была новой, но Зиап поднял её на невиданный доселе уровень интенсивности.
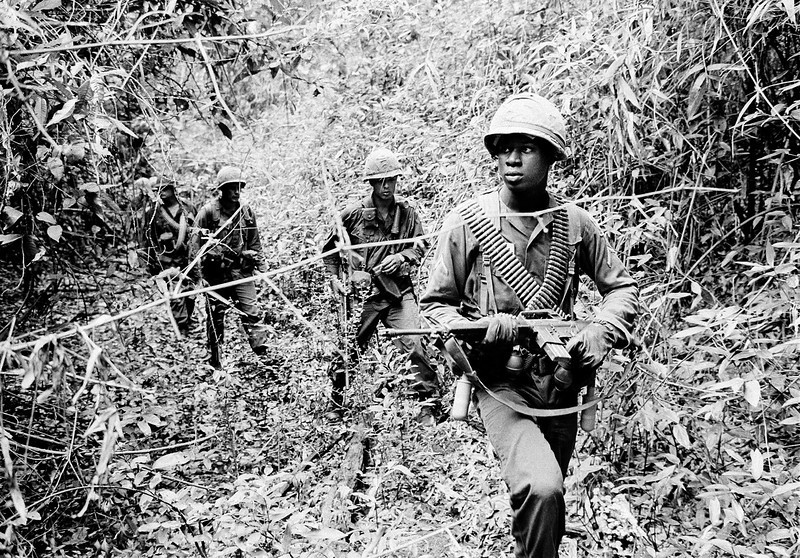
Война во Вьетнаме: солдаты американской воздушно-десантной дивизии патрулируют второстепенные джунгли. За спиной у передового командира патруля находится гранатомёт, готовый открыть огонь в случае, если патруль попадёт в засаду. Контакты с Вьетконгом часто были случайными и приводили к небольшим, но постоянно растущим потерям на протяжении всей войны.
Идея использования избирательного терроризма для подрыва общества была подхвачена в конце шестидесятых годов бразильцем Карлосом Маригелой. Его идеи стали приобретать всё большую значимость (и актуальность) после провала многочисленных попыток восстаний в сельской местности по всей Латинской Америке после успешной кампании Кастро на Кубе (1956–1959). Отчасти неудачи на материке были вызваны непосредственно Кубой в двух отношениях. Во-первых, успех Кастро и последовавший за ним переход в коммунистический лагерь предупредили латиноамериканские правительства об опасности восстания: Куба воспользовалась своим успехом бесценным преимуществом внезапности.
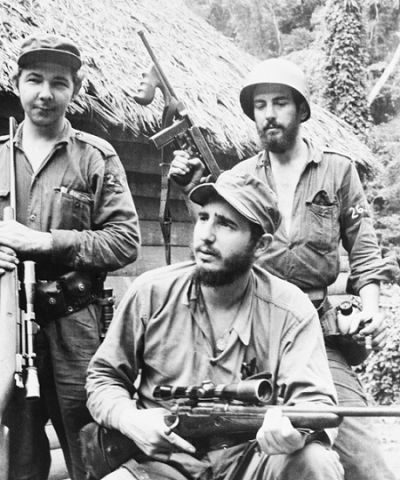
Фидель Кастро, лидер кубинских революционеров, с охотничьим ружьём, которое было его личным оружием.
Более того, связи Кастро с Москвой сжали золотую середину – область подлинных сомнений, неопределённости, замешательства и терпимости, столь же существенных как для демократии, так и для её врагов, – вынудив выбирать между двумя монолитами: коммунизмом и статус-кво. Такой выбор свёл на нет значительную часть потенциальной поддержки. Во-вторых, определённые уроки, извлечённые из опыта Кубы, прежде всего Кастро и Геварой, стали революционной догмой в Латинской Америке шестидесятых годов. Этих уроков было три. Во-первых, силы безопасности не непобедимы и могут быть побеждены; во-вторых, сельская местность – естественная зона действий революционеров; в-третьих, и это было наиболее спорно, Гевара утверждал, что военные действия могут создать революционную ситуацию, необходимую для успеха повстанцев.
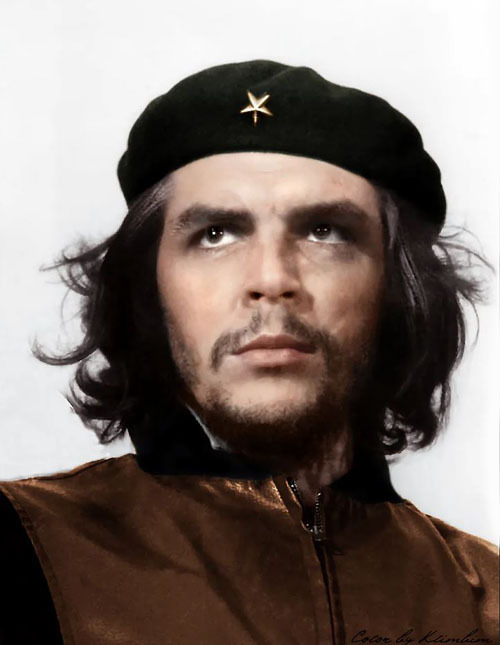
Любимец революционеров, Че Гевара, принёс теорию очагов революционной войны в Боливию и потерпел неудачу. Теория, изложенная Режисом Дебре, требовала от революционера обосноваться в стране и привлечь людей на свою сторону с помощью вооружённой пропаганды — это сработало на Кубе, но не сработало в Боливии, где Че Гевара был убит.
Это прямо противоречило ленинским концепциям подготовки в ожидании глубокого кризиса в обществе, которым коммунисты надеялись воспользоваться. Это также полностью отрицало акцент Мао на длительной идеологической обработке населения как основе военных операций. Гевара утверждал, что небольшое, мобильное, мощное ядро профессиональных революционеров (так называемое «фоко») может военными действиями спровоцировать кризис и, следовательно, создать импульс для достижения успеха за счёт тактических побед на поле боя – эффект «подталкивания»: успех подпитывался успехом, доверие к правительству подрывалось неудачами, в то время как победы повстанцев приносили приток рекрутов, снабжение и политические симпатии.
Некомпетентная и провальная кампания Гевары в Боливии в 1967 году стала достаточным подтверждением обоснованности его идей. Сельская местность, особенно в Андских государствах, просто не созрела для революционного восстания. Ни в одной стране Латинской Америки в шестидесятые годы сельское восстание не смогло выжить и создать серьёзную угрозу, и лишь в пяти случаях кампании вышли за рамки подготовительной стадии. Американская подготовка, личный состав и снаряжение, программы реформ, проблемы с передвижением и недостаточная организованность повстанцев, апатия сельского населения и неэффективность сил безопасности – всё это привело к подавлению революционного движения.
Но по мере того, как пережившие эти попытки возвращались в города, постепенно начал осознаваться революционный потенциал самих городов, до сих пор не замеченный и, в случае Гевары, порицаемый. В шестидесятые годы Латинская Америка впервые стала городским населением более чем на 50%. Это само по себе означало, что сельские повстанцы стали менее актуальными, чем прежде. В этих растущих и разрастающихся городах скопление безработных, молодёжи и сквоттеров* в трущобах представляло собой огромный источник потенциального недовольства.
*Сквоттинг - Скваттерство, сквотирование, или сквоттинг (англ. squatting) — акт самовольного заселения покинутого или незанятого места или здания лицами (сква́ттерами или скво́ттерами), не являющимися его юридическими собственниками или арендаторами, а также не имеющими иных разрешений на его использование.
Сами города были средоточием власти – и уязвимыми целями – с лёгким доступом к населению через СМИ.
Города же обеспечивали укрытие, безопасность и удобные пути к целям и от них. Эти принципы осознали партизаны «Тупамарос» (Tupamaros) в Уругвае и Маригела. Именно на примере первых и в трудах последних («Справочник по городской партизанской войне») возникла концепция городского повстанческого движения, которая привела к глобальному всплеску этого вида конфликта в начале семидесятых годов.
Маригела разделял веру Гевары в концепцию «фоко», но подход к ней отличался. Он считал, что революционная элита может ускорить революцию посредством вооружённой борьбы, но считал, что городское «фоко» – это средство достижения этой цели. Цель городской революционной войны была двоякой. Во-первых, заманить силы безопасности в города и тем самым ослабить их влияние в сельской местности, позволив повстанцам закрепиться в сельской местности. Маригела считал, что сельское и городское повстанческое движение должны дополнять друг друга, иначе по отдельности они будут разгромлены. Вместе они нарушат баланс сил безопасности и предотвратят их концентрацию, тем самым предоставляя повстанческим группам пространство для манёвра.
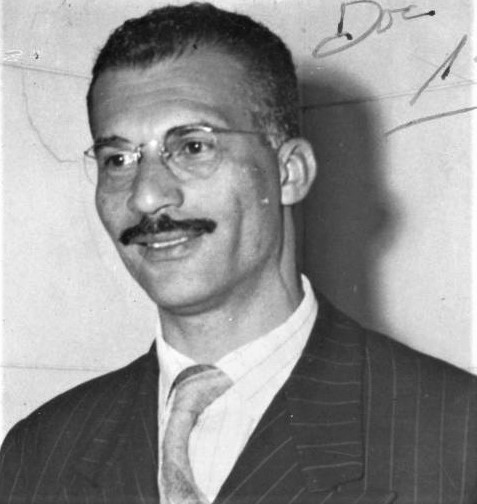
Carlos Marighella (Карлос Маригелла) (5 декабря 1911 — 4 ноября 1969) — бразильский политик, писатель и марксистско-ленинский активист. Критически относясь к ненасильственному сопротивлению бразильской военной диктатуре, он основал Ação Libertadora Nacional, марксистско-ленинскую городскую партизанскую группу, которая была ответственна за серию ограблений банков и похищений знаменитостей. Он был убит полицией в 1969 году из засады. Самым известным вкладом Маригеллы в революционную литературу стал «Минируководство городского партизана».
Во-вторых, городская партизанская война была направлена на деморализацию общества, вынуждая силы безопасности к репрессиям, тем самым поляризуя общество, раскрывая разочарованному населению репрессивную, но бессильную природу государства. Сочетая криминальные методы и умелое манипулирование СМИ и общественным недовольством, городская партизанская война надеялась вызвать революционный подъём, оттолкнув людей от власти. Короче говоря, городская партизанская война была своего рода общенациональной охранной акцией, направленной на унижение власти и подрыв доверия, в результате которой население обратилось бы к повстанцам за защитой и единственным средством прекращения борьбы.
Маригела (Marighela) был убит в столкновении с бразильской полицией в ноябре 1969 года, но, в отличие от Гевары, это нельзя было считать комментарием к его идеям. Однако в этой концепции были очевидные слабые места. Наиболее заметным из них был тот факт, что правительство не обязательно было принуждать к репрессиям до начала повстанческих действий, которые могли бы оттолкнуть население от повстанцев, что вызвало бы обратную реакцию. Именно это и произошло в Турции, в Западной Германии и, ещё до того, как Маригела сформулировал свои идеи, в Венесуэле в начале 60-х годов. Более того, если бы имела место реакция на повстанцев, это могло бы привести к замене мягкого и толерантного правительства, не решавшегося прибегнуть к репрессиям, на правительство, не испытывающее подобных угрызений совести.
В Уругвае сами «Тупамарос» были уничтожены именно таким образом. Помимо очевидной проблемы взаимодействия между сельскими и городскими повстанческими группами, ещё одной сложностью стало расширение небольших групп из четырёх-пяти человек, выживание которых зависело от их безопасности и скрытности, до крупных организаций, способных взять на себя инициативу и обеспечить победу в случае ослабления власти. Преимущество концепции Маригелы заключалось в том, что она предоставляла начинающим партизанам руководство по основам городского повстанческого движения. В «Руководстве» описывались методы, а не политические заявления и стратегия. Это обеспечивало подражание, особенно учитывая лёгкость коммуникации как между людьми, так и между идеями.
Основные идеи городской партизанской войны, применённые в Северной Ирландии, связали значительную часть британской армии на период, превышающий продолжительность Второй мировой войны. Тактика, применявшаяся в Северной Ирландии, в основном соответствовала описанной Маригелой: рейды и нападения (в частности, на коммерческие, полицейские и военные объекты, а также на средства связи сил безопасности), захват таких целей, как радиостанции и фабрики (в пропагандистских целях), засады, организация уличных беспорядков (часто для того, чтобы заманить силы безопасности в зону поражения), убийства (эвфемистически* называемые казнью), похищения, саботаж и общий, неизбирательный терроризм.
* Эвфемизмы используются в речевых или печатных текстах для замены слов, признанных грубыми или «непристойными», например, бранно-ругательных и нецензурных слов.
Хотя отдельные действия могут различаться по целям и осуществляться для достижения конкретных целей, таких как освобождение госпитализированных или заключённых коллег, захват оружия, устранение агентов полиции и т. д., основное внимание в действии уделяется его психологическому воздействию и значению. Каждое действие должно быть ориентировано на его моральную ценность, на место в вечерних новостях или в заголовках утренних газет. Каждое действие должно рассматриваться в этом контексте.
Два наглядных примера того, как городские повстанцы могут попытаться получить психологическое преимущество над силами безопасности, можно найти на примере деятельности ИРА (Ирландская республиканская армия). Перед встречами премьер-министров Великобритании, Ирландии и Северной Ирландии в сентябре 1971 года теракты и расстрелы, организованные ИРА, достигли беспрецедентной интенсивности, что снизило ценность самих переговоров и вынудило участников встречи реагировать на события, а не обсуждать действия, которые могли бы повлиять на ход событий. Аналогичным образом, взрывы в центре Лондона 8 марта 1973 года были преднамеренно спланированы, чтобы отвлечь внимание (особенно международное) от того факта, что в тот день Ольстер проголосовал за сохранение в составе Соединенного Королевства 591 820 голосами против 6463.
В обоих случаях демонстрация фотогеничного насилия, как правило, сводила на нет политическую инициативу соответствующих правительств. Это не означает, что физический ущерб, который может быть причинён подобными действиями, сам по себе имеет большое значение; очевидно, что это так. Интересно отметить, что первоначальная кампания ИРА 1919 года началась с нападений на 119 налоговых инспекций – действий, которые, несомненно, пользовались популярностью у населения, но также наносили прямой удар по самой сути государственной власти, заключающейся в её способности собирать налоги.
Также были атакованы 315 заброшенных полицейских казарм, что казалось бы несколько донкихотским жестом, пока не осознаёшь, что любое контрнаступление армии и полиции в 1919 или 1920 году могло быть основано только на занятии ими заброшенных участков. В ходе нынешней кампании в Северной Ирландии был нанесён огромный ущерб, отчасти из-за расчёта, что цена этой кампании может оказаться слишком высокой для британцев.

Британские войска патрулируют в Дерри...(Северная Ирландия) 1969 год.
Таковы некоторые из тактик, используемых городскими террористами. Главная цель заключалась в установлении контроля над населением и в том, чтобы расколоть общество. Возможно, главная слабость городской партизанской войны заключается в том, что она не может поляризовать общество, если оно уже не разделено. Но возможно также, что вторая цель – ослабление решимости властей – также находится вне досягаемости повстанцев, поскольку подобные операции в будущем будут проводиться в метрополиях, а не в далёких колониях или зависимых территориях, откуда можно будет отступить.
Тот факт, что они сражались на территории, которую они считали своей родиной, и что не было места, куда можно было бы отступить, отчасти объясняет горячность французской реакции на события в Алжире 1954–1962 годов. Франция направила 500 000 человек на алжирскую войну и в военном отношении выиграла конфликт. Франция изолировала Алжир от внешних источников помощи, создав массивные заграждения вдоль своих границ и интенсивно патрулируя побережье. Она переселила население и разместила в стране мощные гарнизоны, размер которых определялся размером и важностью местоположения. В сельской местности французы использовали активные легкие подразделения в разведывательных операциях, характеризующихся беспрецедентным использованием вертолетов.
На одном этапе было задействовано 600 вертолётов, которые быстро продемонстрировали своё преимущество перед другими видами авиации, позволяя как десантировать, так и высаживать войска плотной компактной группой, не испытывая проблем с перегруппировкой после прыжка. Эта тактика применялась для установления контакта с вражескими формированиями и их беспощадного преследования до полного уничтожения. Эта задача в основном была возложена на элитные подразделения французской армии, такие как легион, парашютисты, морская пехота и егеря. Несмотря на огромные финансовые затраты и чрезмерные людские ресурсы, такая тактика сработала: к 1961 году военная составляющая повстанческого движения была исчерпана.
Но, предприняв эти усилия, французы растратили политическое преимущество, которое было жизненно важно для общего успеха. Для контрповстанцев недостаточно обеспечения безопасности, материальных благ и хорошего управления населением: необходимо убедить население дать своё свободное согласие правительству, а в Алжире этого не произошло. Более того, оно было отозвано. Отчасти это было результатом непреодолимого раскола в Алжире по расовому и религиозному признакам, отчасти тем, что из-за международной обстановки и присутствия за пределами Алжира значительных повстанческих сил, нетронутых и непобеждённых, у населения не было стимулов поддержать французские действия.

Вооруженные французские солдаты (на переднем плане) противостоят кричащей толпе алжирцев у входа в местный квартал Касба в Алжире, 14 декабря 1960 года.
Но во многом отчуждение алжирского общества было обусловлено методами, применявшимися французами. Хотя повстанцы применяли варварские методы террора против населения – отрезание ушей, носов, губ, нанесение увечий в целом и жуткие способы убийства – французские контрмеры, особенно в Алжире, полностью поляризовали общество. По французским данным, каждый восьмой заключённый, доставленный на допрос в Алжире в первые шесть месяцев 1957 года, не выдержал допроса. Пытки стали повсеместным явлением: война превратилась в соревнование в терроре. Это было не только губительно для мусульманского населения, но и противоречило интересам самого французского государства. Французское общество, разочарованное потерями и трудностями не только в Алжире, но и ранее в Индокитае, не одобрило бы использование подобных методов со стороны демократического и цивилизованного общества.
В конечном счёте, оно также не приняло бы утверждение экстремистских элементов во французской армии о том, что общие усилия, необходимые в Алжире, определяли участие армии во внутренней политике и, при необходимости, её доминирование над ней, если бы действующее правительство, казалось, не справлялось со своими обязанностями (в их интерпретации). Большая часть французской армии отвергала такую точку зрения, но она была достаточно широко распространена, чтобы способствовать падению Четвёртой республики в 1958 году. Доктрина «Революционной войны», по-видимому, опровергала утверждение Клаузевица о том, что война — это инструмент политики, и утверждала, что политика существует для обслуживания тотальных военных усилий. Как бы то ни было, успех французской тактики сделал эту концепцию весьма мощной силой, пока де Голль не обеспечил господство французского государства над армией, проведя чистку многих армейских подразделений и, наконец, предоставив независимость Алжиру.
Для контрповстанцев единственный известный метод борьбы с повстанческим движением, как в сельской местности, так и в городах, заключается в базовых методах, которые так хорошо зарекомендовали себя в Малайе, хотя в той кампании контрповстанцы обладали многими преимуществами, которых не было у других. Основой политического успеха в Малайе стали интенсивная полицейская деятельность и исключительно качественные действия спецподразделений, а военного успеха – превосходство сил безопасности во второстепенных тактических приёмах: интенсивном патрулировании, меткой стрельбе, засадах и противозасадных учениях. Ключевым фактором победы в Малайе стала тесная координация действий армии и полиции в рамках гражданского контроля и верховенства закона.

Патрулирование в Малайе во время чрезвычайного положения. Эта длительная, изнурительная партизанская война была выиграна благодаря сочетанию политических и военных действий. Чисто военное решение в условиях повстанческого движения редко возможно, поскольку сила партизан заключается в их способности привлекать новобранцев из числа населения.
Однако следует признать, что в некоторых случаях приоритет должен отдаваться традиционным военным действиям, например, в ситуации, когда повстанческие силы действуют в крупных масштабах в обычных боевых условиях (например, в Южном Вьетнаме, где американцы начали активное развертывание войск в 1965 году). Но в конечном счёте, учитывая, что революционная война – это тотальная война, военные усилия вторичны, а важнейшими характеристиками являются политические; в этой ситуации военные могут справиться лишь с частью конфликта. Суть борьбы заключается в контроле и лояльности населения, и в этом контексте экономические, социальные, образовательные, медицинские и социальные программы, а также разработка содержательных политических программ в долгосрочной перспективе важнее, чем обеспечение безопасности, хотя эти идеи не могут укорениться в обществе, где безопасность находится под угрозой.
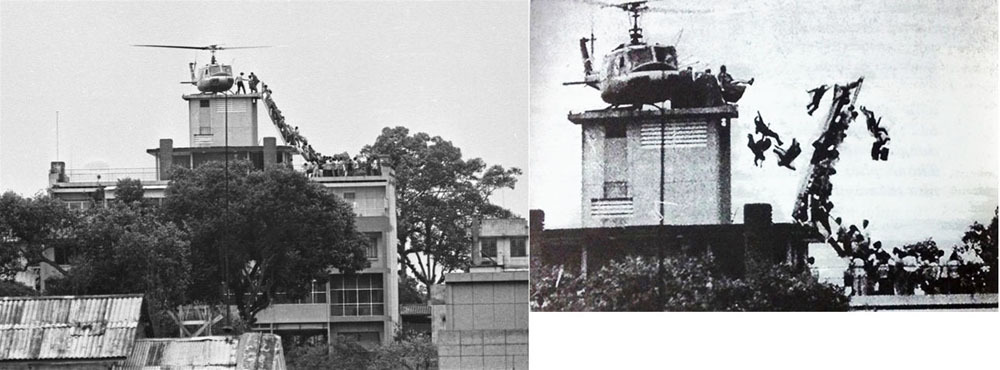
Окончание неудачной контрповстанческой войны. Американцы эвакуируют Сайгон.
Сверхдержавы в строю
Сброс атомных бомб на Японию в августе 1945 года стал свидетельством американской промышленной и технологической мощи. На всех морях главенствовал американский флот; в воздухе его авиация по численности и качеству бесконечно превосходила авиацию любой другой страны; на суше его армии были многочисленны, щедро оснащены и опытны. Единственной державой, которую можно было реально противопоставить ей, был СССР, но он заметно уступал ей в промышленном, экономическом и финансовом отношении. Более того, превосходство Америки над Советским Союзом в двух других областях было особенно заметным. Во-первых, США обладали монополией, а затем и решающим превосходством в ядерном оружии; во-вторых, они имели географическое превосходство, поскольку, хотя обе страны расширяли свою мощь и влияние в ходе войны, американская экспансия достигла такой степени, что она (или её союзники) окружила СССР и обладала средствами для ведения будущих боевых действий на территории Советского Союза, оставаясь при этом неуязвимой.

Страны - члены Организации Североатлантического договора (НАТО)
Эти соображения определяли стратегию почти два десятилетия. С наступлением мира американская армия была демобилизована, но по мере того, как холодная война приняла форму споров о Германии, поддержки коммунистами гражданской войны в Греции, переворота в Чехословакии и войны в Корее, именно американцам пришлось взять на себя лидерство в демократическом процессе, поскольку только они обладали ресурсами и лидерскими качествами, необходимыми для сопротивления агрессивной природе советской диктатуры. Европейцы были явно неспособны защитить себя, поскольку Великобритания и Франция имели колониальные обязательства, а Западная Германия была разоружена. Создание НАТО в 1949 году и формулирование Лиссабонских целей в 1950-х годах не смогли исправить эту слабость.
В первые годы НАТО полностью зависело от американского ядерного зонтика в плане защиты. Американская стратегия была относительно прямолинейной и основывалась на сдерживании, предполагавшем немедленное ядерное возмездие по советской территории в случае советской агрессии. Целью американской политики было нанести Советскому государству такой ущерб путем разрушения его городов, чтобы любая политическая цель, преследуемая Советами, значила очень мало или вообще ничего по сравнению с опустошением территории страны. Мощь и определённость намерений Америки были настолько сильны, что эта стратегия оказалась весьма эффективной. Изначально стратегия американского сдерживания опиралась на военно-воздушные силы — самый простой, дешёвый и долгое время единственный способ доставки ядерного оружия к цели.
Но технологии, подобно тому, как они создали ядерную бомбу, работали над созданием других средств доставки таких бомб, и, более того, эта технология уже не была монополией американцев; Советы работали в том же направлении, хотя и позже. Эти два фактора привели к эволюции стратегии ядерного сдерживания. Хотя базовая стратегия США и НАТО не изменилась, средства её реализации претерпели фундаментальные изменения. Из-за опасности полной опоры на одну систему оружия (самолёт нес ядерное оружие) начался поиск альтернативных средств доставки.
Эти альтернативы воплотились в систему «триада», представляющую собой комбинацию самолётов (как крупных стратегических бомбардировщиков, так и палубных самолётов с бомбами свободного падения и ракетами дистанционного наведения), стратегических ракет с подводных лодок и ракет, запускаемых с наземных баз, как мобильных, так и специально защищённых в укреплённых шахтах. Сами ракеты эволюционировали от моноблочных боеголовок к ракетам с различным количеством боеголовок, некоторые из которых были заранее настроены на групповую посадку вокруг цели, другие – на независимое наведение. Эти разработки обеспечили многообразие оружия и диверсификацию средств доставки, что означало, что противник не мог рассчитывать на проведение внезапной атаки, которая уничтожила бы всё ядерное оружие противника.

Ядерная "Триада"
Способность противостоять такому удару по собственным ядерным силам и при этом сохранять достаточную мощь для нанесения неприемлемого ущерба агрессору (так называемый «потенциал ответного удара») является важнейшей предпосылкой стратегии сдерживания. В этом процессе роль наземных ядерных сил остаётся ключевой, хотя основным элементом триадной системы остаются баллистические ракеты подводных лодок.
В связи с этими событиями, а также с тем, что в конце 50-х – начале 60-х годов, казалось, разработка советских средств ядерного сдерживания положила конец американской ядерной неуязвимости, начался отход от концепции сдерживания, основанной на массированном возмездии. Учитывая мощь ядерных арсеналов, всегда существовала вероятность, что опора на ядерное оружие заставит американцев, ограниченных в своих силах и вынужденных выбирать между капитуляцией и самоубийством, рассчитывать лишь на посмертную месть. Таким образом, в начале 60-х годов получила развитие идея гибкого реагирования как стратегии сдерживания для НАТО. В рамках этой стратегии американцы рассматривали НАТО как попытку ведения боевых действий обычными средствами в случае советской агрессии, чтобы найти способы разрешения конфликта без применения ядерного оружия на стратегическом уровне. Учитывая, что обе сверхдержавы в 60-х годах двигались к ситуации взаимно гарантированного уничтожения в случае обмена ядерными ударами – и одновременного уничтожения всего живого на Земле – это изменение было крайне важным.
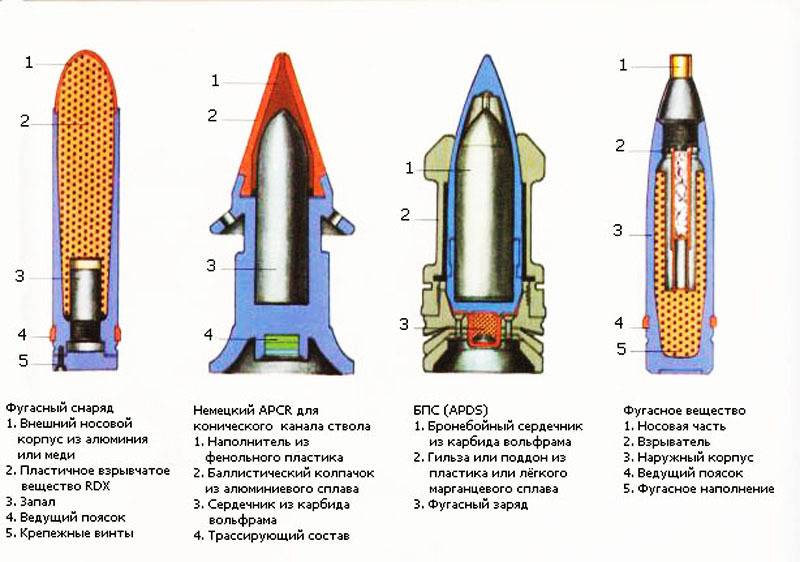
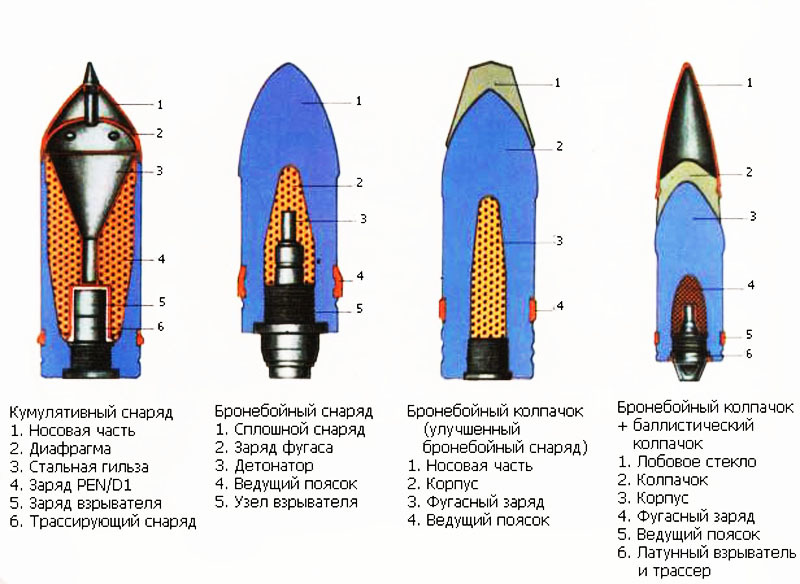
По мере того, как танковая броня становилась прочнее, совершенствовались и технологии производства боеприпасов, в результате чего появились снаряды, способные пробивать практически любые поверхности, кроме самых твёрдых.
Проблема для НАТО заключалась в том, что такая политика, будучи совершенно разумной для американцев, означала крах для европейцев. Выигрыш времени путём ведения боевых действий традиционными средствами должен был быть достигнут в Европе — на территории НАТО. Это, вероятно, было бы крайне разрушительно. Для европейцев имела смысл только политика массированного сдерживания. Более того, если бы такая политика гибкого реагирования была реализована, это могло быть достигнуто только ценой значительного увеличения численности обычных сил. В случае массированного возмездия обычные силы были ограничены, поскольку их главная роль заключалась в демонстрации готовности к обороне посредством присутствия определенной силы на земле, а не в том, чтобы рассматриваться как средство длительной или успешной обороны.
Следовательно, требовалось развёртывание большего количества сухопутных войск, но непосредственной тактической проблемой было то, как их использовать. Основной выбор заключался в развёртывании войск вперёд или в тылу. Преимущество развёртывания в тылу состояло в том, что, хотя первоначальная атака будет направлена в воздух, обороняющийся сможет обнаружить основные линии обороны противника до начала боя и, при необходимости, перегруппироваться до контакта с ним. Такая тактика также имела преимущество, вынуждая противника выдвигаться на выбранную территорию, истощая себя и свои запасы. В ходе такого боя противник мог быть направлен в «зоны поражения», через которые ему нужно было пройти, чтобы продолжить наступление, и там он мог быть атакован бронетехникой, артиллерией или пехотой (или любой комбинацией этих трёх) или тактическим ядерным оружием.

«Скорпионы» 17/21-го уланского и 14/20-го Королевских гусарских полков во время учений «Славный ястреб» — первых крупных учений «Скорпион», проведённых в Германии.
Однако с политической точки зрения идея тыловой обороны – возможно, предполагающей оборону на удалённом, но важном природном объекте – была неприемлема для страны, которая являлась ареной подобных предполагаемых действий. Для страны-«хозяина» оборона должна включать в себя передовую оборону территории, не уступая добровольно территории, которая в любом случае могла бы быть использована в качестве рычага воздействия на переговорах в случае ограничения или сдерживания конфликта. Тактическим недостатком такого развёртывания, с другой стороны, является подверженность полному удару первоначального наступления и возможность ошибочного определения противником основных направлений наступления. Первоначальное стратегическое развёртывание вперёд может оказаться невозможным для исправления, если оно окажется ошибочным.
Для СССР обычные вооруженные силы играли совершенно иную роль, чем на Западе. Способность захватить Западную Европу благодаря превосходству в обычных вооружениях была сутью советской стратегии сдерживания в период отсутствия ядерного оружия и значительного уступления в этом вооружении Соединённым Штатам. Однако ценность этих обычных вооруженных сил значительно возросла в результате достижения Советским Союзом ядерного паритета с Соединёнными Штатами (или если не паритета, то хотя бы приближения к нему): продолжающееся наращивание Советским Союзом мощи на суше, на море и в воздухе можно рассматривать только в свете этой ситуации. Хотя устаревание конструкции, требования новых технологий и особые оборонные потребности такой огромной страны, как Советский Союз, действительно могут быть использованы для объяснения колоссального роста вооружённых сил за последнее десятилетие, нынешнее положение советских вооружённых сил, включая сухопутные войска, можно рассматривать только в стратегическом контексте, когда коммунистический блок стремится обеспечить себе такое стратегическое превосходство над Западом, которое лишило бы Запад возможности эффективно реагировать в случае какого-либо будущего кризиса. На последнем съезде КПСС министр иностранных дел Громыко именно об этом и говорил.

Новое орудие FH70 НАТО во время войсковых испытаний на равнине Солсбери. Орудие, разработанное совместно немцами, итальянцами и британцами, имеет собственный силовой агрегат для передислокации на место.
В чисто военном смысле, в силу своей политической идеологии, стратегия Советской Армии ориентирована на наступление, причем главными характеристиками этой позиции являются акцент на скорости и массовости. Скорость имеет первостепенное значение, поскольку марксистская идеология предписывает конечную победу экономически более мощной стороне. Учитывая резкое промышленное отставание коммунистического блока от Запада, Советы должны быть нацелены на быструю завоевательную кампанию, прежде чем ресурсы Запада будут полностью мобилизованы. Массовость, другая характеристика, долгое время была отличительной чертой советских операций, но в последние несколько лет наблюдалось качественное и количественное увеличение советских формирований, что придаёт новое измерение понятию массовости, особенно в контексте Центрального фронта в Европе.

Немецкий экипаж перемещает орудие
В результате советского вторжения в Чехословакию в 1968 году количество советских дивизий в Восточной Европе (исключая Советский Союз) выросло с двадцати шести до тридцати одной: с 1973-74 годов огневая мощь этих дивизий возросла примерно на 20 процентов. Рост огневой мощи во многом обусловлен тем, что ожидаемая (или желаемая) скорость продвижения, предусмотренная Советами в начале шестидесятых годов, привела к внедрению самоходной артиллерии, поскольку буксируемые орудия не могли обеспечить быструю и адекватную огневую поддержку в быстро меняющейся обстановке. К сожалению, у Советов не было самоходных орудий, способных удовлетворить эти потребности, и это привело к использованию старых танков Т54/55. В качестве самоходной артиллерии они были выделены в качестве самостоятельного подразделения в составе мотострелковых дивизий; эти отдельные подразделения не были постепенно упразднены с последующим введением самоходной артиллерии.

Итальянские стрелки готовят боеприпасы и проверяют юстировку.. Сотрудничество в разработке вооружений не только экономит деньги и ускоряет строительство, но и обеспечивает стандартизацию в рамках НАТО.
Советские сухопутные войска подразделяются на три типа, в зависимости от преобладающего рода войск: мотострелковая дивизия, танковая дивизия и парашютно-десантная дивизия. Все они, по сути, являются общевойсковыми формированиями с местной пехотой, бронетехникой, артиллерией и специальными войсками, а также подразделениями поддержки и обеспечения линий связи. Воздушно-десантные войска являются элитой армии и состоят из семи дивизий. Они могут использоваться как небольшими соединениями для разведки и диверсий, так и более крупными формированиями, размер которых зависит от состояния воздушного боя и характера цели. В последнем случае они, вероятно, будут использоваться для захвата мостов и переправ парашютным или вертолетным десантированием. Однако основная тяжесть наземных боев, очевидно, ляжет на танковые дивизии (шестнадцать в Восточной Европе и сорок девять в целом) и мотострелковые дивизии (пятнадцать и 110 соответственно).(Все данные на 1970-е годы)
Оба типа дивизий сформированы в соотношении 3:1, причём мотострелковая дивизия имеет свой отдельный танковый батальон, оставшийся от выполнения функций самоходной артиллерии. На всех уровнях, от дивизии до батальона, подразделения имеют собственные роды боевой поддержки, что в целом способствовало массовой концентрации огневой мощи, особенно артиллерии. В общей сложности танковая дивизия располагает 325 танками и около 9300 человек личного состава: мотострелковая дивизия – 266 танков и 11 600 человек личного состава. Артиллерийская поддержка различается между дивизиями тем, что танковые дивизии полагаются на собственные орудия для противотанковой защиты, тогда как мотострелковым войскам придан батальон противотанковой артиллерии. В целом, дивизии организованы либо в танковые, либо в общевойсковые армии в соотношении 3:1, хотя иногда в армии может быть более четырёх дивизий. Армии затем организованы во фронты. Основная советская практика существенно не изменилась со времён войны, хотя их способность вести глубокие наступательные боевые действия, естественно, возросла благодаря быстрой механизации Советской Армии.

Член расчета бежит за следующим снарядом, пока немецкий расчет ведет огонь из FH70 в Ларкхилле, Англия. Британские артиллеристы вели стрельбы на полигонах в Сардинии, а совместные учения НАТО проводились в разных странах Европы. Это сотрудничество позволяет армиям сравнить свои знания о стандартных оперативных процедурах и ознакомиться с местностью, на которой им, возможно, когда-нибудь придется сражаться.
Упор делается на мобильность, концентрацию сил в заданном месте атаки, внезапность, активные действия и стремление к сближению с противником и поддержанию контакта до его полного уничтожения. Чтобы обеспечить как широту, так и глубину атаки, упор делается на масштабные операции (вспомним наступление 1944 года) и тесное взаимодействие между подразделениями при поддержке авиации. Целью таких операций является либо окружение и, следовательно, уничтожение противника, либо глубокое проникновение на его позиции для уничтожения его снабжения, подкреплений и способности к ведению боевых действий. Для достижения этих целей Советы стремятся осуществить решительный прорыв, сосредоточив решающее численное и материальное превосходство в выбранной ими точке (обычно вне карты). Это подразумевает формирование дивизии в общевойсковые боевые группы (с преобладанием бронетехники) на фронте шириной не более пяти миль с одним, а лучше двумя, направлениями наступления. По всей вероятности, дивизии будет предоставлено только одно направление наступления на участке фронта не более двух миль. Учитывая, что фронт армии составит от двадцати до тридцати миль, а наступающая дивизия будет располагаться в глубину от тридцати до шестидесяти миль, чтобы избежать скученности и, следовательно, ядерного удара, фланги фактически останутся открытыми.
Разведывательные подразделения будут использоваться не только перед передовыми частями, но и на этих флангах, а также между дивизиями, составляющими армию. В ходе наступления советские войска обычно будут атаковать двумя эшелонами, причем первый эшелон будет более мощным. Он будет содержать большую часть бронетехники и поддерживаться всей артиллерией. Задачей первого эшелона будет прорыв фронта противника, в то время как второй эшелон будет проходить через (вероятно, истощенные и, возможно, разбитые) первые эшелоны, чтобы развить прорыв и сохранить импульс наступления. Аналогичным образом, дивизии второго эшелона будут проходить сквозь первую волну, чтобы продвигаться к целям или прорывать линию фронта, если это окажется за пределами возможностей передовых дивизий.
Концентрация живой силы и техники (более 2500 единиц в мотострелковой дивизии) очевидно очень опасна и сложна, особенно при тактическом переходе от наступления колонной к быстрому боковому развертыванию для атаки после установления контакта. Для этого наступление возглавляет дивизионный разведывательный отряд, находящийся примерно в 30 милях впереди полковых разведывательных отрядов, которые находятся примерно в 8 километрах от авангарда. Авангард обычно состоит из мотострелковой роты и танкового взвода. В некотором смысле все три имеют схожую роль: они предназначены для обнаружения, оценки и сообщения о позициях противника, а также, по возможности, для их преодоления и продолжения наступления. Это позволяет дивизии избежать траты времени на развертывание для организованной атаки. В ходе атаки передовая полковая боевая группа разворачивается в батальонные боевые группы: две в передовой линии, одна в резерве, с артиллерией, оказывающей непосредственную поддержку примерно в 5 километрах от позиций противника. Задача артиллерии — обеспечивать огневое прикрытие при развертывании по ротам, а затем по взводам в ходе самой атаки. (Естественно, такое развертывание предполагается осуществить за пределами эффективной дальности действия пехотного оружия.) Наступление предполагается проводить быстро, в идеале с использованием БТР, а не спешенной пехоты; когда пехота вынуждена идти в атаку пешком, БТР должны обеспечить прикрытие сильным пулеметным огнем.
Советские войска не жалуют стандартные бои, особенно потому, что они могут включать атаки на сильные позиции (включая танки с закрытыми корпусами) и требуют времени и превосходства в численности, которыми командир не обязательно располагает. Более предпочтительным является так называемый «встречный бой», который подразумевает открытое действие советского формирования против противника, выдвигающегося для контратаки. По сути, это ситуация «огня и манёвра» в крупном масштабе, но Советы предпочитают её, потому что в этом случае противник лишается своих естественных оборонительных преимуществ, а численное превосходство советских войск может быть использовано с максимальной эффективностью. Встречный бой предполагает крупное фланговое движение после того, как разведывательные подразделения и авангард, выступающий в качестве опорного пункта для развёртывания, блокируют ход продвижения противника и сковывают его, одновременно, как ожидается, выявляя масштабы и направление продвижения противника.
В зависимости от наземной дислокации основные силы наступления будут направлены на фланг, пока противник удерживается на своих позициях и не может подготовить оборонительные позиции. Фланговый обход направлен на охват позиции противника до тех пор, пока под артиллерийским прикрытием атака не будет начата силами полка. В связи с опасностью того, что сам обход может быть захвачен во фланг, советские войска предусматривают использование оборонительных мер, таких как размещение противотанковых орудий, вертолётов с противотанковыми ракетами и минных полей, для защиты своих позиций от атак. Очевидная проблема такого наступления присуща любому бою: успех не может быть гарантирован, а роли атакующей и жертвы могут поменяться местами.
Возможно, наиболее часто практикуемое советскими войсками учение – одна из самых сложных военных операций – форсирование речного препятствия в присутствии противника. Поскольку любое продвижение советских войск в Западную Европу привело бы к столкновению с серьёзной водной преградой, понятно, почему это вызывает серьёзную обеспокоенность. Теоретически они считают такие атаки обычным делом, полагая, что их следует проводить с линии наступления без каких-либо задержек ни при форсировании препятствия, ни при прорыве с захваченного плацдарма. Соответственно, они оснастили себя обширным и эффективным амфибийным и инженерным оборудованием. Все их БТР, за исключением одного – устаревшего – являются амфибийными, как и лёгкий разведывательный танк ПТ-76. Советские ОБТ, учитывая твёрдое речное дно и мелководные берега, могут плавать под водой, а их мостоукладочное и переправочное оборудование оказалось полезным для индийцев в войне за Бангладеш и для египтян в войне с Израилем 1973 года.

ПТ-76 (плавающий танк-76) — советский плавающий, лёгкий и основной танк.
Плавающий танк 76 модель был принят на вооружение ВС Союза ССР в 1951 году. За время серийного производства, с 1951 года по 1967 год, неоднократно модернизировался, всего было выпущено 3 039 единиц ПТ-76, а также ряд боевых машин на его базе.
Тем не менее, между намерением и реальностью вполне может быть разница, поскольку установка дыхательных трубок — трудоёмкий процесс, и вполне ожидаемы некоторые задержки в разведке, организации переправы и реорганизации после неё. Проблемы организации речного десанта многочисленны, не в последнюю очередь из-за необходимости выбирать места переправ без предварительной разведки. Существует также проблема организации атак на относительно узком фронте, но не настолько плотно, чтобы спровоцировать ядерный удар. Акцент делается на внезапных переправах разведывательных групп, которые пытаются захватить и удержать незащищённые переправы. Однако для целенаправленного десанта инженерная разведка необходима за некоторое время до прибытия основных сил. В дивизионном десантном десантном отряде передовое подразделение — обычно боевая группа мотострелкового батальона — выдвигается вперёд, чтобы расчистить подступы к реке, занять позиции на противоположном берегу и, по возможности, предотвратить контратаку или отход противника. Сама дивизия должна была переправиться двумя эшелонами, причем более сильная ее часть должна была переправиться второй.
То, что они отступают от своей обычной процедуры продвижения вперёд с более сильной частью своих сил, говорит о том, что переправа через реку может быть не такой уж простой задачей, но причина, по которой большая часть сил была оставлена для второй волны, заключается в уверенности, что второй эшелон сможет сохранить импульс наступления, пройдя сквозь первую волну без необходимости перегруппировки. В наступлении первого эшелона передовой полк обычно выделяет два или три батальона, каждый из которых имеет все три роты, развернутые в линию, в идеале все они входят в воду одновременно. Достигнув противоположного берега, пехота спешивается с БТР для выполнения непосредственных задач. После того, как передовые батальоны захватили противоположный берег (а непосредственные задачи передовых полков могут находиться на расстоянии до шести миль от самой реки), второй эшелон выдвигается вперёд с паромами ГСП и мостовым оборудованием для приёма бронетехники. Танки в первый эшелон не вводятся.

ГСП, он же «Изделие 55» — машина инженерного вооружения, гусеничный самоходный паром.
Гусеничный самоходный паром ГСП предназначен для паромной переправы средних и тяжёлых танков, самоходных артиллерийских установок и средних танков с минными тралами при преодолении войсками водных преград.
Время между первым наступлением и переправой танков, как предполагается, составляет около тридцати минут. Для содействия этому процессу воздушно-десантные войска могут быть использованы либо для обеспечения переправы до прибытия дивизии, либо во время самой атаки. Непосредственная авиационная поддержка, как правило, предусматривается для наступления и на период немедленной перегруппировки на плацдарме, когда передовые мотострелковые подразделения будут лишены бронетехники и артиллерии. Будет доступна общая артиллерийская поддержка, вплоть до применения ядерного оружия, если цель будет сочтена достаточно важной. Возможно, при переправе через реку советские войска применят реактивную артиллерию против позиций противника, а также широко применят химическое оружие, поскольку оно обеспечит насыщение местности. Для прикрытия атаки на всех начальных этапах будут широко использоваться дымовые завесы.
Плановый бой, встречный бой и речной штурм – вот основные тактические приёмы Советской Армии: простые, прямолинейные и не слишком сложные или изощрённые, они напрямую используют сильные стороны военной машины. В общих чертах, методы, которых придерживаются Советы, тяготеют к концепции «потока» в полностью механизированном масштабе и модернизированном для включения нового вооружения. Главным источником слабости может быть снабжение и техническое обслуживание, которые довольно слабы, и здесь Советы могут столкнуться с серьёзными проблемами. Арабо-израильская война 1973 года выявила высокие темпы расхода боеприпасов и снаряжения на современном поле боя. В войне 1967 года они были несколько скрыты ранним воздействием израильской авиации и дезорганизацией арабов. В 1967 году израильтяне с презрительной лёгкостью разгромили египтян, иорданцев и сирийцев. В эйфории победы израильтяне и многие сторонние наблюдатели были склонны рассматривать исход войны как оправдание танков. Действительно, боевые характеристики израильских танков были впечатляющими.

Танк Tiran-4 Early представлял собой вариант танка Т-54/55, использовавшийся Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в период с 1967 по 1974 год. Эти танки были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль разгромил несколько арабских стран и захватил значительное количество военной техники.
Танки «Центурион» («Centurion») прорвали египетские оборонительные позиции в Хан-Юнисе и Рафе и прорвали основную часть египетской обороны в направлении Эль-Ариша; израильская бронетехника внесла значительный вклад в окружение и уничтожение египетских танков к востоку от перевала Митла.

Израильский танк «Центурион» («Centurion») во время войны Судного дня. Войны на Ближнем Востоке позволили экспертам оценить оружие и технику в действии и продемонстрировали, что многие уроки 1940 года актуальны и тридцать лет спустя. Авиация обеспечивает свободное передвижение по суше, что, в свою очередь, даёт атакующему больше свободы действий для нанесения ударов по противнику, когда и где он захочет.
Израильские танки также хорошо проявили себя в боях на Западном берегу и при штурме позиций на Сирийских высотах.
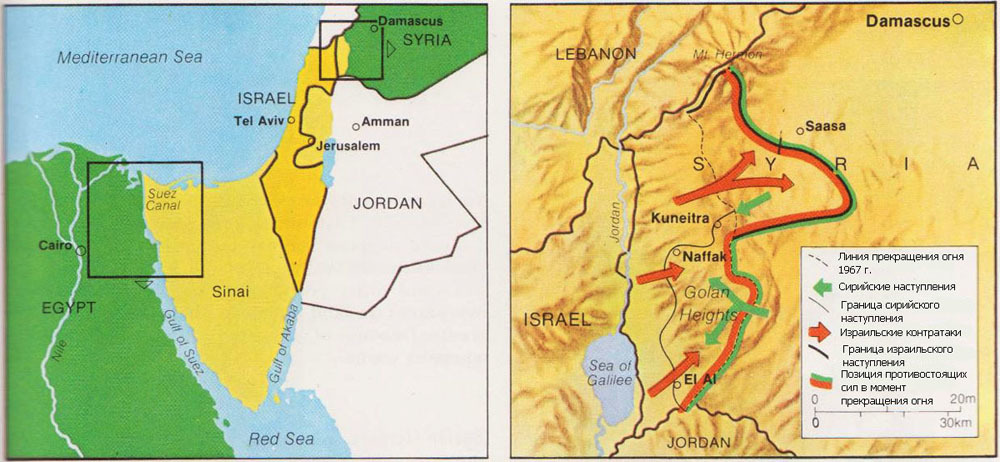
Шестидневная война 1967 года...
Однако война 1973 года показала, что, хотя танк, несомненно, был чрезвычайно важен, он не был тем самым превосходящим оружием, каким его считали некоторые наблюдатели. Когда египтяне хлынули через канал в своём первом наступлении, израильтяне ввели в бой свою бронетехнику так же, как и в 1967 году. Эти контратаки были несбалансированными, плохо скоординированными и лишенными пехоты, артиллерии и непосредственной авиационной поддержки.
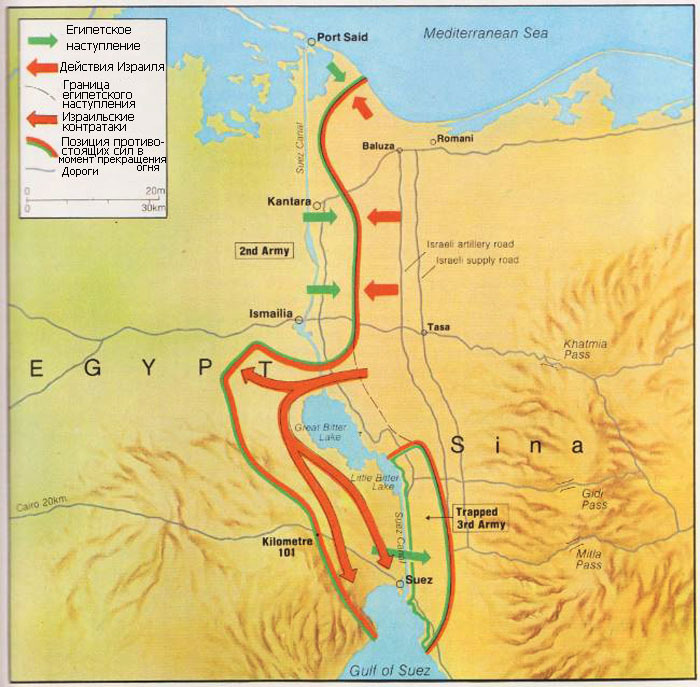
Военные действия 1973 года...
Израильское наступление было буквально остановлено на месте: бронетанковая бригада, наступавшая на Суэц, была уничтожена не танками и артиллерией, а главным образом новым оружием, впервые появившимся на поле боя – высокоточным управляемым оружием (ВУО) типа «Саггер» и переносными ПТРК.

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) — управляемая ракета, предназначенная для поражения танков и других бронированных целей, может применяться и для поражения других объектов.
Широкое применение ПТРК позволило нанести неприемлемые потери израильтянам, которые из-за углубляющегося кризиса на Сирийских высотах были вынуждены перейти к обороне на Синае и ожидать подкрепления и перегруппировки. Однако на севере израильские танки продемонстрировали свою эффективность в качестве истребителей танков. Мощь сирийского наступления в сочетании с упорством и невероятной храбростью вынудили израильтян отступить, но лишь ценой непомерных затрат времени, потерь и физической выносливости. Двигаясь вперёд в традиционных советских тактических построениях, сирийцы перешли на израильские танковые орудия, и израильтяне максимально использовали выгодные условия местности в оборонительном бою. Храбрость и потери израильтян позволили выиграть время для подтягивания резервов, необходимых для начала контратаки, поскольку темп сирийского наступления начал ослабевать. На Синае растущие трудности сирийцев вынудили египтян отказаться от своих первоначальных и весьма ограниченных целей и перейти в наступление, чтобы ослабить давление на своих союзников.
Продвигаясь вперёд, египтяне потеряли сплочённость и открыли огонь по израильским танкам. В последовавшем бою превосходная подготовка и опыт, пожалуй, лучших танковых войск мира, обеспечили Израилю решительную победу. Более того, продвигаясь вперёд после оборонительного этапа, израильтяне показали, что усвоили уроки начального обмена ударами. Была применена новая тактика, включающая общевойсковую боевую группу: пехоту впереди бронетехники и БТР, которые вели плотный огонь по областям, откуда могли вестись или велся огонь ПГВ. По сути, пехота прорывала фронт, чтобы дать возможность бронетехнике продвинуться и развить успех: оба рода войск взаимодействовали, чтобы обеспечить огневое превосходство над противником, полагаясь на превосходство в неизбирательном огне по площадям, чтобы компенсировать эффект высокоточного оружия.
Из-за интенсивного площадного огня наведение высокоточного оружия становится опасным, что снижает вероятность попадания. Отчасти противоядием от более мощного оружия всегда было обеспечение большего количества того же оружия. Отчасти, будущее может показать, что сплошной огонь может свести на нет ценность высокоточного оружия. Как бы то ни было, развитие высокоточного оружия может дать пехоте более активную роль в зоне поражения НАТО, чем до сих пор.
Морская война (Морские приемы ведения войны)
Морская мощь и её развитие до 1914 года

HMS Victory — классический парусный деревянный линкор. Тактика в его время зависела от ветра и хорошей артиллерийской подготовки, а также от способности капитана маневрировать, выводя корабль в положение, откуда можно было обстреливать уязвимые места противника, например, нос или корму.
Морская мощь – это средство, с помощью которого государство или группа государств, действуя сообща, пытается обеспечить и поддерживать господство на море для транспортировки своих торговых и военных ресурсов, необходимых для ведения военных действий. При этом оно, естественно, стремится лишить противника возможности воспользоваться этими возможностями. Стратегические элементы, связанные с поддержанием этой мощи, включают в себя строительство судостроительных и артиллерийских сооружений, баз внутри страны и за рубежом, рыболовецкого, торгового и гидрографического флотов, а также создание окончательного арбитра морской мощи – боевого корабля. От последнего в конечном итоге зависит безопасность прохода других кораблей и безопасность страны. Боевые корабли представляют собой компромиссные конструкции, сочетающие оборонительную защиту, двигательную установку и автономность с наступательной мощью. Это было верно на протяжении всей истории, поэтому характер и мощь боевого корабля в любой момент времени зависят от уровня развития технологий в тот момент. Военные корабли, по крайней мере, всегда строились с использованием самого мощного существующего оружия или в поддержку корабля, несущего это оружие. Однако в нынешнем столетии технологии привели к появлению как оружия, так и средств его доставки, которые соперничали друг с другом за право быть решающим оружием на море; и это оружие привело к специализации кораблей и изменило стратегические и тактические концепции их применения.
Во времена Французской революции и Наполеоновских войн существовал только один тип военного судна: деревянный боевой корабль, построенный с грубыми, неточными и малодальнобойными пушками. Разрушительная сила таких пушек была настолько мала, что для достижения хоть какой-то эффективности их приходилось устанавливать бортовыми залпами и использовать на очень коротких дистанциях. Это имело два последствия. Во-первых, это означало, что орудийные палубы должны были быть достаточно тяжёлыми, чтобы выдерживать вес множества орудий, а борта – достаточно прочными, чтобы обеспечивать некоторую степень защиты орудийных расчётов. Вес, подразумеваемый в подобных расчётах, означал, что корабли должны были полагаться на ветер и течение для передвижения, поскольку самостоятельное движение на веслах было исключено. Во-вторых, в тактическом плане, природа корабля предписывала ему вести бой бортовым залпом, поскольку у него не было никаких средств для наступления спереди или сзади (или вообще каких-либо существенных). Это означало, что сила, стремящаяся к действию, должна была использовать преимущество ветровых условий, чтобы загнать противника в ловушку. Если противник уступал противнику по мощи, но имел преимущество в погодных условиях, превосходящий противник мало что мог сделать, чтобы вынудить противника к действию, поскольку у него не было превосходства в скорости, необходимой для сокращения дистанции. Парусные корабли всех стран были примерно одинаковы (отсюда и примерное равенство в скорости), поскольку преобладающий уровень технологий – знание методов судостроения, мастерство изготовления парусов и канатов, ковки пушек и ядер – был примерно одинаковым в Европе и Северной Америке. Он постоянно развивался и совершенствовался (хотя и очень медленно), но в целом корабли конца XVI, XVII, XVIII и начала XIX веков были схожи по конструкции, характеристикам, навыкам экипажей и зависимости от стихий для передвижения.

Битва у мыса Сент-Винсент, Ричард Бриджес Бичи, 1881 г.
Целью морской мощи была прежде всего оборонительная. Главной целью была защита целостности страны от вторжений и набегов, против которых в противном случае пришлось бы использовать вооружённые силы. В случае Британии, островного королевства у берегов Европы, усеянной государствами, располагавшими армиями, превосходящими её собственную, в этом заключался смысл существования военно-морского флота: другие страны, будучи континентальными, нуждались во флоте по той же причине, но не были так абсолютно зависимы от морской мощи для национального выживания, как Британия. В поисках защиты от морских нападений определённые стратегические интересы могли иметь огромное значение (например, для Британии предотвращение оккупации Нижних Земель враждебной державой из-за близости этих территорий к восточному побережью Англии), обычной тактикой была плотная блокада вражеских портов равным или превосходящим флотом. В эпоху парусного флота такая политика всегда была доступна британцам, поскольку такие корабли обладали огромной автономностью – при условии дисциплины и наличия пресной воды – и им не приходилось возвращаться в порт для дозаправки. Более того, если ветры вытесняли британцев с их баз (у французских и/или испанских портов, поскольку они были естественными врагами Британии), те же юго-западные ветры не давали противнику покидать свои порты. Кроме того, у британцев было больше подходящих портов на атлантическом побережье, чем у французов и испанцев. Таким образом, география и метеорология давали Британии огромные преимущества в морской войне с её постоянными противниками во времена парусных судов. Это повторилось в изменившихся обстоятельствах XX века, в борьбе за достижение второй цели морской мощи – защиты торговли.
Взглянув на карту мира 1914 года, можно быстро заметить две наиболее характерные особенности Британской империи: ее необъятность и ее преимущественно морской характер.
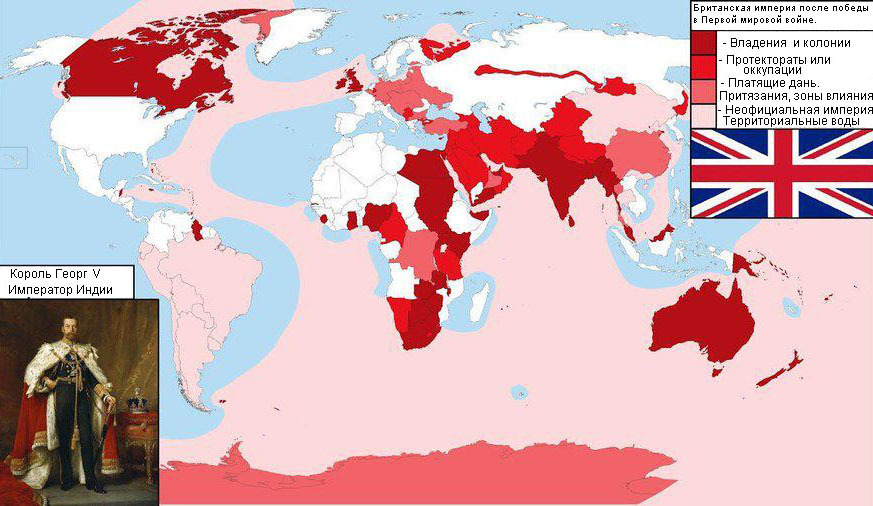
Британская империя. На пике своего могущества в 1918 году после победы в Первой мировой войне.
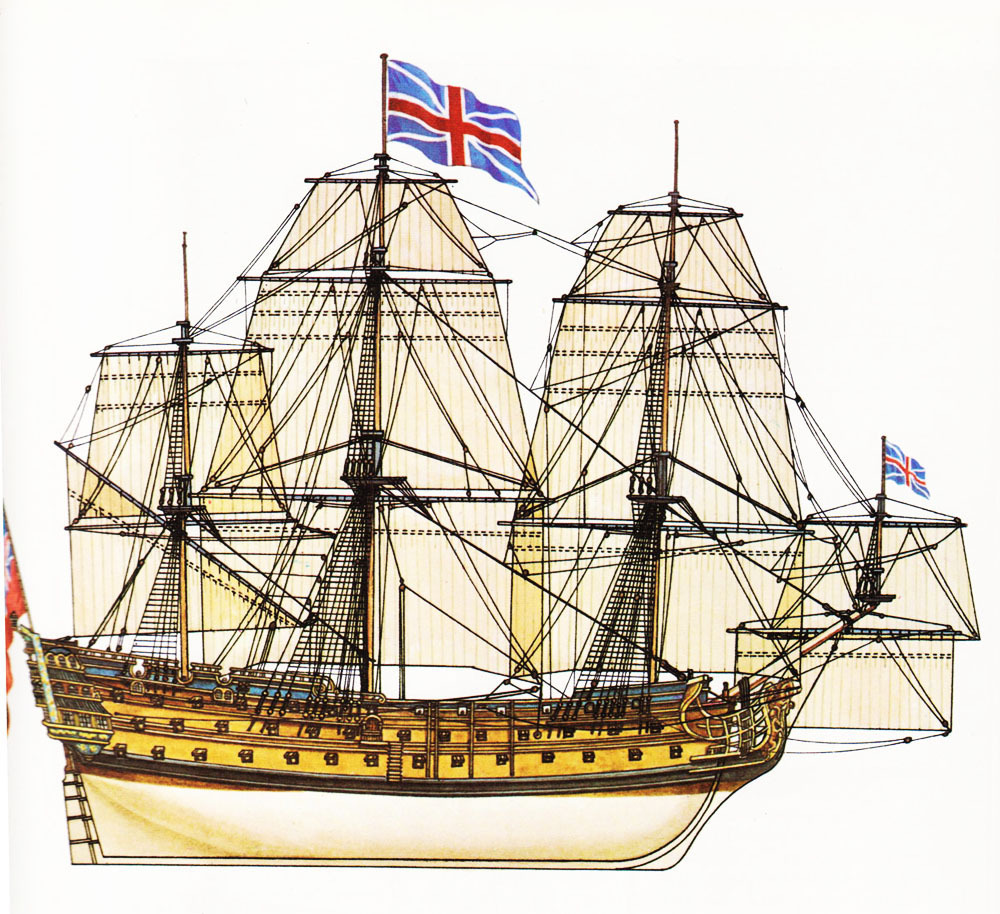
План парусного вооружения и вид линейного линкора XVIII века. Такие корабли могли годами оставаться в море при наличии продовольствия и боеприпасов.
В значительной степени, но ни в коем случае не полностью, созданная в эпоху парусного флота, Британская империя была приобретена морской мощью. Почти каждая сужающаяся точка находилась под контролем Великобритании, фактически каждая точка, где коммуникации прокладывались через узкий морской проход, находилась под контролем британцев; каждая точка, где узость морского прохода обозначала поле битвы для великих держав, контролировалась Королевским флотом. Ветер и течения определяли расположение этих позиций во времена парусных судов, угольных бункеров в век пара. К 1914 году, благодаря усилиям прошлых войн, Гибралтар, Мальта, Порт-Саид, Суэц, Аден, Персидский залив, Коломбо, Сингапур, Гонконг, Момбаса, Кейптаун, Фритаун, Фолклендские острова, Вест-Индия, Новая Зеландия — все они находились под британским флагом. С этих позиций и из своих портов Британия контролировала большую часть мировой торговли; с этих позиций она могла немедленно оказать давление на любую другую страну; в этих местах можно было бы собрать средства защиты торговых судов — систему конвоев торговых судов, следующих вместе под вооруженным эскортом, предоставляемым Королевским флотом.
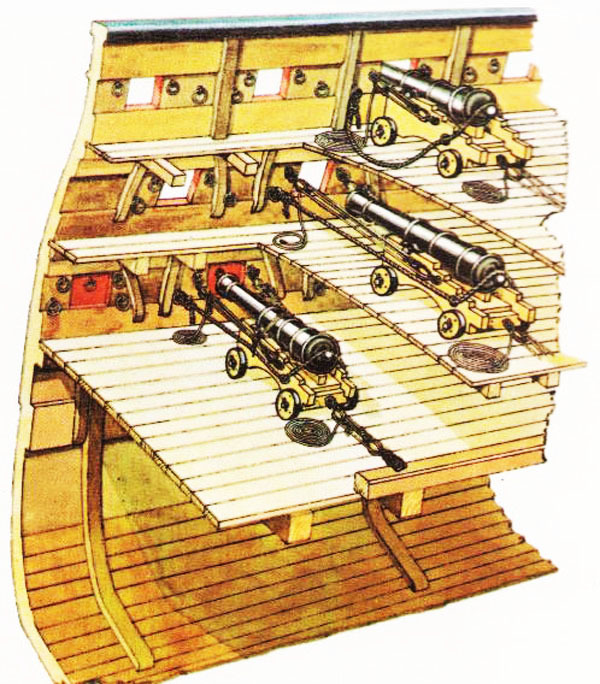
Разрез орудийных палуб трёхпалубного корабля с выдвинутыми пушками, полностью откатёнными и закреплёнными.
Таким образом, функции морской державы в её исторической эволюции по сути были двоякими: защита от вторжения и защита торговли. До появления железных дорог и автомобильного транспорта эти функции имели огромное значение, даже большее, чем сегодня. Однако обратная сторона этих функций также имела огромное значение: господство на морях позволяло владельцу выбирать время и место для вторжения, экспедиции или рейда, что было частью его намерения подчинить противника своей воле; господство на морях также позволяло захватить торговлю противника; отсутствие господства на морях (в последнем случае) побуждало страну отправлять налётчиков для поиска одиноких вражеских торговых судов с целью доставки грузов в порты страны.
Оставались ещё две функции морской мощи, применимые как в мирное, так и в военное время. Во-первых, наличие флота в целости и сохранности было мощным инструментом дипломатии, козырем за столом переговоров, средством получения уступок и достижения соглашений, которые были бы невозможны без флота. Во время войны такой флот также мог сковать ресурсы противника, срочно необходимые для таких операций, как колониальная экспедиция или защита от торговых налётов. Во-вторых, боевые корабли могли «демонстрировать флаг» как инструмент дипломатии, символ власти, намерений и возможностей: в XIX веке эта роль была практически синонимом Королевского флота.
Корабли, выполнявшие эти функции, как отмечалось ранее, были однотипными – деревянными парусными судами с бортовыми пушками. Эти корабли делились на два основных типа: линейные корабли и фрегаты; основное различие заключалось в количестве орудийных палуб. Линейный корабль, по определению, был кораблём, способным занять место в боевой линии против самых тяжёлых вражеских кораблей; такие корабли несли более трёх орудийных палуб. Фрегаты, гораздо более манёвренные, но не обязательно быстроходные, обычно несли одну орудийную палубу и использовались в качестве разведчиков, курьеров и защитников торговли. Выполнение своих функций обоими затруднялось проблемами со связью: дым от выстрелов, такелаж и слабый ветер затрудняли визуальную сигнализацию, и адмиралы испытывали множество трудностей с управлением флотом после начала боя.

Первое сражение при Уэссане (1778) на картине Теодора Гюдена. Адмирал Кеппель позже предстал перед военным трибуналом за то, что позволил французскому флоту скрыться, но был оправдан.
Кроме того, было трудно воспользоваться внезапными возможностями, возникавшими в ходе конфликта. В целом это имело эффект подавления инициативы, поскольку самым простым решением было принять строй линии фронта в бою, когда корабли сражались с равными по численности кораблями в линии противника.
Подобные теории были впервые изложены в Англии в 1653 году в виде «Боевых инструкций» и позднее, в 1673 году, получили дальнейшее развитие. С некоторыми изменениями, они стали священным писанием для Королевского флота в XVII и XVIII веках. Адмиралы могли отступать от линии боевого порядка только на свой страх и риск, и не поощрялось прорывать линию противника, чтобы спровоцировать рукопашную схватку или обеспечить себе сокрушительное преимущество над частью вражеского флота. Только в случае бегства противника святость линии боя могла быть нарушена в генеральной погоне. Слепое следование этим идеям часто приводило к нерешительным сражениям, и профессор Льюис в «Истории британского флота» указал, что между 1692 и 1782 годами пятнадцать ортодоксальных «линейных» сражений не привели ни к одному потопленному или захваченному вражескому кораблю, в то время как шесть «погонь» завершились сокрушительными победами британцев.
Тактическая бесплодность линейной тактики, при которой исход сражения решался географическим положением и стратегическим развертыванием, а не инициативой, действительно привела к усовершенствованию методов сигнализации, предложенных Хау и Кампенфельтом, но в конечном итоге вся эта концепция была подвергнута теоретическому сомнению такими авторами, как де Морог, Клерк и де Гренье, а на практике – такими адмиралами, как Нельсон. Однако остаётся фактом, что независимо от того, как часто линейная тактика демонстрировала свою бесполезность на войне, в мирное время она неизменно возвращалась к использованию. Это, безусловно, имело место после Наполеоновских войн, но в то время произошло одно очень важное событие, которое практически гарантировало перемены: промышленная революция в её применении к морской войне.
За пятьдесят лет после Трафальгарской битвы единообразие конструкции кораблей, тщательно выработанное за предыдущие двести лет, распалось под воздействием стремительно развивающейся техники, в которой не было ни ориентиров, ни источников накопленных знаний, на которые можно было бы опереться. Корабли претерпели глубокие изменения. Независимое движение было восстановлено с введением сначала гребного, а затем и винтового движителя; орудия стали тяжелее, стали нарезными и стреляли снарядами. Новые снаряды требовали защиты, отличной от деревянной, что привело к тому, что сначала корабли полностью или частично обшивались железом, а затем и полностью строились из железа. Бортовые залпы были упразднены, как и паруса и мачты. Орудия начали устанавливать на вращающихся платформах, что позволяло наводить их по широким секторам обстрела, и их окружали башнями для защиты экипажей. К 1870 году корабли разных флотов значительно различались по конструкции, возможностям и мореходным качествам.
Более того, не только корабли менялись под влиянием развития артиллерии, но и, под влиянием металлургических и химических разработок, появлялись новые виды оружия, потенциальные конкуренты пушкам. Это оружие предназначалось для поражения вражеского корабля в наиболее уязвимую точку под ватерлинией. Поиски такого оружия (помимо тарана) ведутся уже более трёх столетий, но лишь в XIX веке технологии позволили его разработать. Первым новым оружием стала мина (первоначально называвшаяся торпедой), и её изобретение обычно приписывают Сэмюэлю Кольту, хотя работы над таким оружием велись в разных местах одновременно. Кольт изобрел мину – взрывной заряд в металлической оболочке, – которая могла взрываться электрическим током, подаваемым с наблюдательного пункта на суше. Впоследствии были разработаны контактные мины, взрывающиеся при столкновении с кораблём. Ранние мины, по сути, были примитивными, но со временем появилась возможность использовать более эффективные взрывчатые вещества, более эффективные способы инициирования и разработать надёжный метод установки мин на заданной глубине. (Последнее достигалось путем установки мин со специализированного судна с прикрепленным якорем, кабелем и гидростатом, который фиксировал мину на необходимой глубине.)
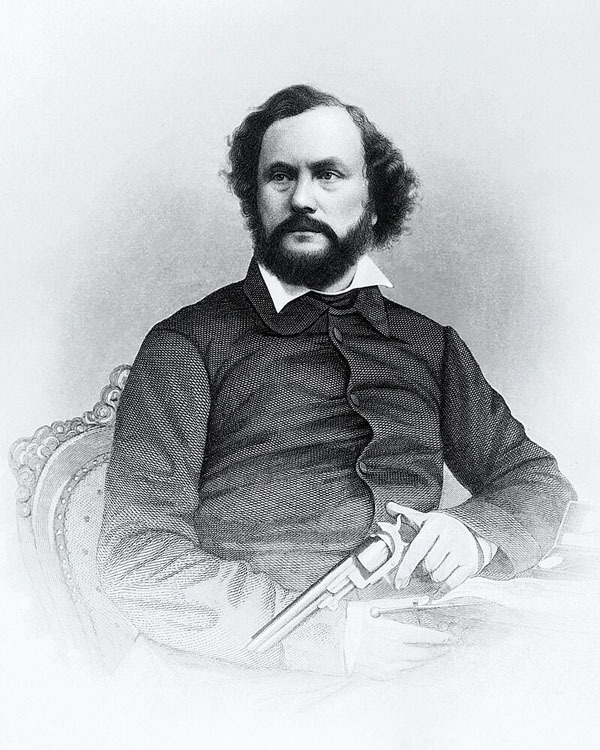
Сэмюэл Кольт с одним из пистолетов, которыми он прославился. Он также разработал управляемую морскую мину для защиты гаваней и прибрежных вод.
Мины имели огромное стратегическое и тактическое значение. Они широко применялись во время Крымской войны (1854–1856 гг.), но не привели к потерям (первым кораблем, погибшим от мин, стал USS Cairo в 1862 году в битве на реке Язу). Впоследствии их растущая эффективность привела к тому, что политика непосредственной блокады побережья противника становилась всё более нереалистичной, поскольку мины – дешёвое оружие массового производства, не требующее обслуживания и требующее малочисленных сил – были идеальным оборонительным оружием для защиты побережья и гаваней, лишая агрессивный флот возможности манёвра. Более того, в наступательном отношении мины могли быть использованы для ограничения доступа противника в его гавани. Вторым новым оружием была «локомотивная торпеда» – подводное оружие с собственным двигателем, что отличало его от других видов торпед, которые требовали от своих пользователей желаний смерти. (USS Housatonic в 1864 году стал первым крупным надводным кораблём, потопленным подводной атакой, когда подводная лодка Конфедерации с ручным приводом подорвала под собой заряд: подводная лодка погибла в попытке сделать это, такова была опасность ранних типов торпед.) «Локомотивная торпеда» была изобретена австрийцем Лупписом и шотландцем Уайтхедом в Фиуме. Она была неустойчивой в своём направлении и способности удерживать глубину, но могла только совершенствоваться. После того, как в конце семидесятых годов появились винты противоположного вращения, горизонтальный руль и гироскоп объединились, чтобы повысить её эффективность; к 1890-м годам торпеда с 300-фунтовой боеголовкой имела дальность 1000 ярдов на скорости 30 узлов (или 4000 ярдов на скорости 19 узлов) и могла быть выпущена из-под ватерлинии движущегося корабля.
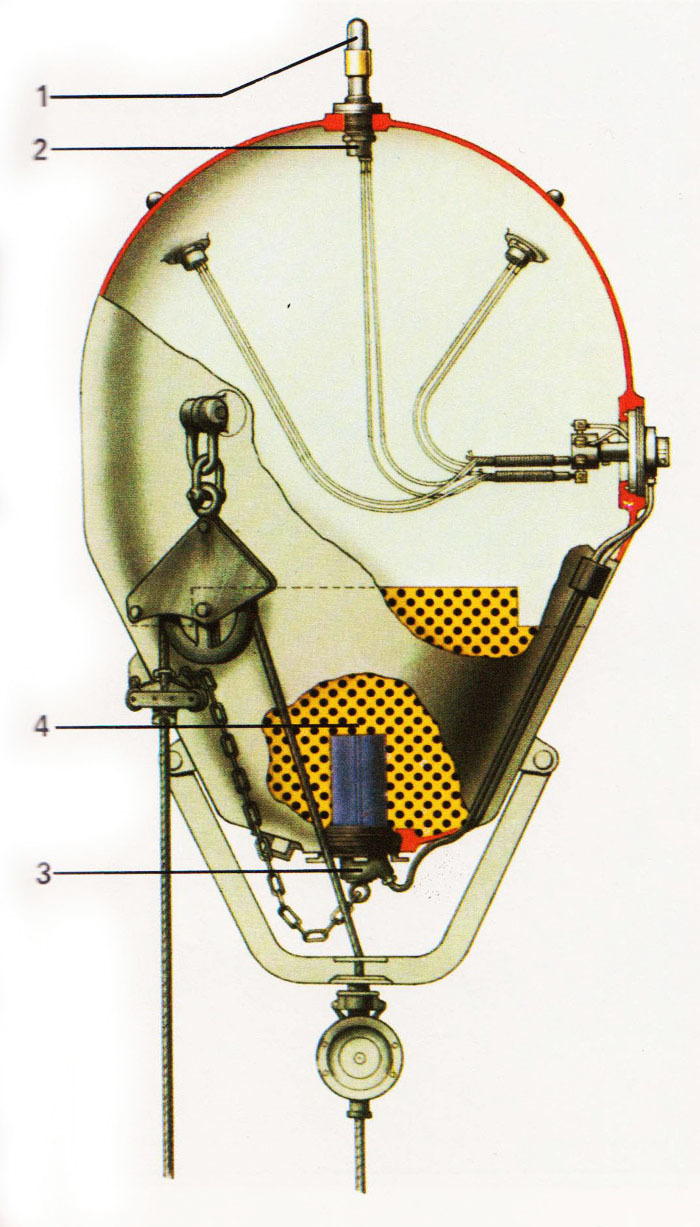
Немецкая морская мина: 1. Стеклянная трубка с раствором бихромата. При разбивании стекла раствор встречался с цинково-угольной пластиной. 2. Электрический ток проходил по запальному проводу к детонатору. 3. Подрыв основного заряда. 4. Мина крепилась тросом, который крепился к грузу, лежащему на морском дне.
Первоначально, ещё в 1870 году, строились специальные «торпедные катера», но они были небольшими, не отличались особой мореходностью, дальностью хода и не имели достаточного количества мест для экипажа. В первую очередь они предназначались для обороны гаваней, хотя, как показал опыт русских, когда два их катера потопили турецкий сторожевой корабль в Батуме в 1878 году, их можно было использовать и в наступательных целях, даже с имевшимися в то время примитивными торпедами. Тем не менее, ограничения на использование таких судов можно было преодолеть только путём строительства более крупных и быстроходных судов. Британцы построили «Молнию» («Lightning»), названную так из-за её скорости в 19 узлов. К началу века водоизмещение, скорость и вооружение торпедных катеров росли, и возникла потребность в корабле, способном противостоять таким катерам до того, как они успеют занять позицию для атаки на линию фронта. Британцы, обладая мощным линейным флотом, строили «эсминцы» с хорошей скоростью и довольно мощным артиллерийским вооружением. Многие другие флоты, особенно германский, строили меньшие по размеру, но более быстрые катера с более мощным торпедным вооружением, поскольку их больше интересовали наступательные, а не оборонительные возможности.
Вторым средством торпедной атаки стала подводная лодка, разработанная на рубеже веков. Ранее непреодолимые проблемы, с которыми приходилось сталкиваться при строительстве подводных лодок, были преодолены благодаря технологиям. Сталь стала подходящим материалом для её изготовления; горизонтальный руль (в надежде) управлял погружением; а двигатель внутреннего сгорания и аккумуляторная батарея обеспечивали безопасное и надёжное движение. К 1900 году шесть флотов имели десять подводных лодок, и британский флот, осознавая опасность, которую это судно может представлять для их морского превосходства, быстро занял лидирующие позиции в этой области. Именно британцы оснастили первые прототипы подводных лодок боевой рубкой и перископом и лидировали в этой области вплоть до начала Первой мировой войны. Третий способ доставки торпед — с воздуха, и первый случай применения этого метода состоялся за неделю до начала Первой мировой войны. Он не оказал непосредственного стратегического или тактического влияния, но влияние авиации начало оказываться в некоторой степени на военно-морское мышление ещё до Первой мировой войны, хотя именно сама война придала этому новому измерению ведения боевых действий основной импульс.
Торпеда оказала решающее влияние на тактическое мышление: она заставила увеличить дистанции. В XIX веке мало кто понимал, как будут вестись сражения, и принцип Нельсона о том, что капитан не может ошибиться, если поставит свой корабль рядом с противником, всё ещё широко считался актуальным. Появление тяжёлых орудий в шестидесятых и семидесятых годах не изменило ситуацию, поскольку их точность была крайне низкой.

«Уаскар» ("Huascar") — броненосный монитор, построенный британцами для перуанцев в 1865 году. Он ходил под парусом или паром, имел мощную двойную 10-дюймовую орудийную башню и броневую защиту с прочным таранным носом.
[В одном из испытаний в 1871 году британский линкор, находясь на расстоянии 200 ярдов, промахнулся мимо цели — другого линкора, оба корабля стояли на якоре; в испано-американской войне 1898 года американцам приходилось сближаться с противником, стоявшим на якоре, на расстояние менее 300 ярдов, чтобы добиться попадания, и тогда точность попаданий составила всего 3% (Манильский залив).] Однако торпеды вынудили увеличить дистанции, поскольку линкоры не осмеливались подходить так близко, опасаясь подводной атаки. Торпеды также вынудили более тяжёлые корабли нести вспомогательное и третичное вооружение для борьбы с торпедными катерами до того, как они войдут в зону эффективного огня. Таким образом, для борьбы с тяжёлыми кораблями и защиты от торпедных атак линкору требовалось смешанное вооружение из тяжёлых, средних и лёгких орудий. Смешанное вооружение также считалось необходимым для обеспечения мощного огня, который считался ключом к победе, отчасти в ответ на чудовищные орудия прошлых десятилетий, неповоротливые и малоточные. Развитие скорострельных орудий в восьмидесятые годы позволило кораблю вести мощный огонь, но увеличение дальности, на которой приходилось вести боевые действия, чтобы не попасть под торпеды, означало, что управление огнём становилось всё сложнее.
Разный калибр орудий и снарядов означал разное время полёта снарядов на заданную дальность и сложность определения места падения отдельных снарядов. В начале XX века был установлен принцип централизованного управления огнём, а вместе с ним и единообразие орудий, что позволяло вести точную стрельбу залпами при условии одинакового калибра орудий. Первым кораблём, оснащённым единым тяжёлым вооружением, стал HMS "Dreadnought" (спущен на воду в 1906 году), хотя американцы первыми объявили о своём намерении построить такой корабль. В стратегическом и тактическом отношении «Дредноут» оказал огромное влияние. В стратегическом отношении он настолько превосходил предыдущие типы линкоров по своей огневой мощи и скорости, что положил начало морской гонке между державами за численное превосходство в этом типе кораблей. В конечном итоге эта гонка переросла в англо-германскую, которую в конечном итоге выиграли британцы, но лишь ценой серьёзных потерь в отношениях между двумя странами. С тактической точки зрения, в связи с расширением зоны действия и необходимостью точной стрельбы на высокой скорости, «Дредноут» нуждался в новом тактическом подходе к своему управлению.

HMS Dreadnought — линкор Королевского флота, конструкция которого произвела революцию в военно-морской мощи. Вступление корабля в строй в 1906 году ознаменовало собой такой прорыв в военно-морской технике, что его имя стало ассоциироваться с целым поколением линкоров — дредноутами, а также с классом кораблей, названным в его честь. Аналогично, поколение кораблей, которые он сделал устаревшими, стало называться «предредноутами».
Увеличение артиллерийской мощи и скорости могло дать преимущество только в том случае, если использовалось для обеспечения подавляющей концентрации сил; но фактически тактическое развертывание большинства флотов оставалось построением линии фронта, где боевая линия маневрировала как единое незыблемое целое. Целью такого развертывания было обеспечение наиболее благоприятных условий – ветра, рассеивающего орудийный и дымовой дым, света и солнца – для сосредоточения против вражеской линии, в идеале – с бортовым залпом, направленным против вражеского авангарда. Это было известно как «пересечение Т».
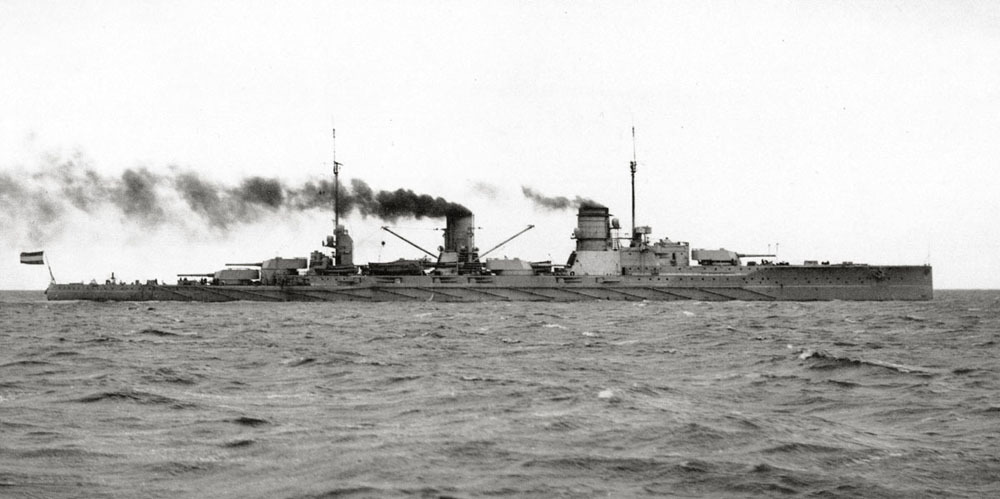
«Зейдлиц», переживший попадание снарядов и торпед и дошедший до берега; его отсеки были затоплены, чтобы корабль оставался в воде даже при очень низкой осадке.
Много внимания уделялось способам обеспечения своевременного развертывания линкоров из их крейсерского строя – компактной массы, прикрываемой сопровождающими судами, – в боевую линию, где можно было обрушить на противника максимально возможную огневую мощь. Меньше внимания уделялось тому, как эскадры, составляющие флот, могли бы использоваться в полуавтономном режиме, тем самым поощряя инициативу и агрессию. Большое внимание уделялось единообразию и деревянной ортодоксальности, при этом слишком большая надежда возлагалась на командующего флотом, который должен был все видеть, знать и приказывать.
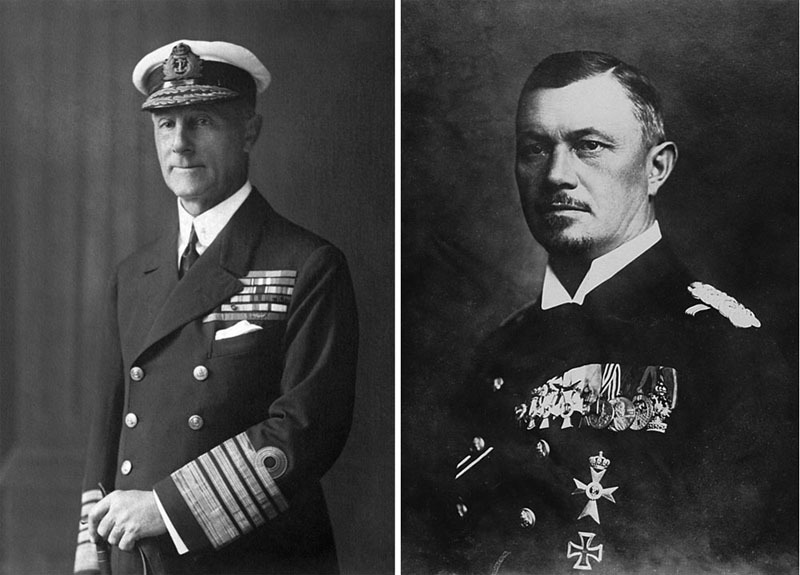
(слева) Адмирал сэр Джон Джеллико, главнокомандующий британским Гранд-Флитом в Ютландском сражении.
(справа) Вице-адмирал Рейнхард Шеер, командующий германским Флотом открытого моря.
Новые разработки значительно усугубили проблемы командующего флотом. Ему по-прежнему приходилось бороться со старыми проблемами, такими как дым, который часто делал невозможной подачу флаговых сигналов (хотя ему помогло внедрение радио до войны), но поле боя расширилось благодаря восстановлению возможности самостоятельного передвижения, и любое сражение неизбежно должно было стать динамичным. Возрастала необходимость постоянно знать местоположение и силы противника посредством детальной разведки и донесения. В этом и заключалась роль крейсера. Крейсеры были вытеснены стальными линкорами, от которых они не могли ни сражаться, ни уходить, поскольку у них не было ни металлической конструкции, ни превосходства в скорости. Первым железным крейсером был британский «Inconstant», почти такой же большой, как современные линкоры.

Согласно другим данным (admin) - Первым британским броненосным крейсером и первым в мире броненосцем с железным корпусом был HMS Warrior, спущенный на воду в 1860 году. Броненосный фрегат, построенный для Королевского флота в ответ на французский деревянный броненосец Gloire, был настоящим технологическим чудом своего времени, отличаясь железной обшивкой и паровой тягой, что значительно отличало его от традиционных деревянных военных кораблей. Сегодня оригинальный HMS Warrior является музеем и хранится в Портсмутской исторической верфи в Англии.
У второсортных военно-морских держав возник соблазн использовать крейсеры с высокой броней в качестве крейсеров и линейных кораблей, но на самом деле теоретические и металлургические разработки привели к разделению эволюции крейсеров на два основных направления. С одной стороны, французское развитие стратегии «Guerre de Course» (стратегии рейдов надводных кораблей) привело к появлению тяжёлых крейсеров, достаточно быстрых, чтобы уклоняться от линкоров, но способных постоять за себя благодаря мощному артиллерийскому вооружению. Французы положили начало этому процессу, построив в 1888 году корабль «Дюпюи де Лом» с 20-узловой скоростью, что делало его несколько медленнее современных крейсеров, но вооружённым орудиями калибра 7,6 и 6,4 дюйма. Затем последовала гонка тяжёлых крейсеров между британцами и французами, в которой пример «Непостоянного» был фактически повторён «Пауэрфул» и «Террибл», которые были почти такими же большими и дорогими, как линейные корабли. Развитие стали способствовало созданию более качественных крейсеров при меньшем водоизмещении, но даже в первое десятилетие нынешнего века наблюдалась тенденция к увеличению размеров, скорости, защиты и вооружения.
Кульминацией этого процесса стали линейные крейсеры, созданные британцами во времена дредноута. Почти такие же большие, как дредноут, они обладали почти такой же мощью основного вооружения и были гораздо быстрее современных линкоров. Линейные крейсеры были специально разработаны для двойной цели: преследования и уничтожения торговых рейдеров, а также в качестве быстрого авангарда линейного флота, способного самостоятельно проводить разведку боем и находиться в боевой линии. Слабость концепции линейных крейсеров, особенно в случае британского флота, хотя и в меньшей степени в немецком и японском, заключалась в том, что тактическое преимущество высокой скорости – возможность выбирать дистанцию и позицию в перестрелке – было достигнуто слишком высокой ценой оборонительной мощи: линейные крейсеры не могли выдержать наносимый ими урон.
Лёгкий крейсер, с другой стороны, не предназначался для того, чтобы принимать на себя удар. Его задачей было установить контакт с противником и удерживать его до достижения контакта с флотом: другими словами, лёгкий крейсер был глазами флота. После начала боя роль разведчика сохранялась, но лёгкие крейсеры должны были обеспечивать защиту линии фронта от атак вражеских крейсеров и эсминцев торпедами, а также сами проводить такие атаки. Для британцев до 1914 года оборонительный аспект этой роли был важнее. Эсминцы Королевского флота имели преимущественно оборонительные приоритеты, хотя и были исключением, поскольку им отводилась наступательная роль в ночных операциях. В целом, флот старался избегать ночных действий, считая их своего рода лотереей, но в то время как линия фронта отказывалась от ночных действий, эсминцам предоставлялась инициатива наносить удары по линии фронта, которые были бы опасны при дневном свете.
До войны эсминцы, как правило, тренировались во взаимодействии с линией фронта как британцами, так и немцами. Оба флота понимали, что координация артиллерийских и торпедных атак с большей вероятностью принесет результат, чем разрозненные усилия. В равной степени оба флота основывали свою тактику не на атаке отдельных кораблей, а на атаках флотилий, полагая, что сосредоточения, создаваемого флотилией эсминцев, будет сложнее избежать. Тактической реакцией линии фронта на такую атаку, по общему мнению, был «отворот от атаки» — выход на небольшую корму с её возмущенным водным потоком, уходящим от торпеды. Таким образом, линия фронта могла обогнать торпеды, поскольку последние начинали замедляться к концу своего хода. Эта тактика была предпочтительнее тактики поворота к торпедам и «прочесывания» их, которая считалась опасной, поскольку сближение скоростей корабля и оружия затрудняло уклонение. Слабость безопасного отворота заключалась в том, что корабль рисковал потерять связь с линией фронта противника.
Эсминцы также выполняли противолодочную функцию, создавая заслон для тяжёлых кораблей, когда последние находились либо в крейсерском плавании, либо в боевом строю. Эффективность эсминцев в этой роли до 1916 года была весьма ограничена, поскольку у них не было средств обнаружения или атаки подводных лодок, кроме артиллерийского огня или тарана. Несмотря на эти ограничения, они, однако, эффективно удерживали подводные лодки на расстоянии от флота: действительно, в период с 1914 по 1916 год был зарегистрирован лишь один случай прорыва британского эсминца немецкой подводной лодкой, что привело к тарану этой подводной лодки «Дредноутом». Тем не менее, угроза подводных лодок накладывала определённые, весьма серьёзные ограничения на стратегическое и тактическое управление боевыми порядками. В стратегическом плане флоты не осмеливались заходить в определённые воды: чтобы двигаться, им приходилось использовать постоянное высокоскоростное крейсерское построение, часто зигзагообразное, постоянно сокращая дальность действия эсминцев, а следовательно, и всего флота.
Подводные лодки сами по себе могли использоваться для защиты подходов к портам и побережью, но, по общему признанию, это было слабым решением, требующим больших затрат личного состава и ресурсов, и вряд ли способным дать значительный результат. Больше внимания уделялось их наступательному использованию, как по отдельности, так и в растянутой линии, как для разведки, так и для атак на боевые порядки противника при первой возможности. С тактической точки зрения, в бою вражеский флот мог быть вытянут через линию патрулирования в «зону поражения» подводных лодок, и по этой причине британцы несколько неохотно следовали за противником, который «отстаивал» во время боя. Однако эта тактика была скорее теоретической, чем реальной, поскольку низкая скорость подводных лодок, как в надводном, так и в подводном положении, действительно затрудняла тесное взаимодействие, хотя угроза была реальной и сохранялась. В этих ролях подводная лодка рассматривалась скорее как придаток к орудию, чем как самостоятельное оружие, и до 1914 года лишь очень немногие рассматривали возможность того, что её главной задачей может стать уничтожение торговых судов. Поскольку подводная лодка не могла снимать экипажи торговых судов, никто всерьёз не рассматривал возможность того, что какая-либо цивилизованная страна могла бы прибегнуть к подобной операции, поэтому это означало убийство или оставление беззащитных моряков торговых судов на произвол судьбы.
Описать ситуацию до 1914 года сложно из-за многообразия задействованных факторов. В материальной и тактической сферах доминировали крупнокалиберные орудия, применявшиеся бортовым залпом на растянутых боевых позициях. Линкоры больше не были абсолютными властителями морей, но подвергались вызову, хотя Первая мировая война показала, что этот вызов в тот момент был переоценён. Однако страх перед новым оружием порождал осторожность как в стратегическом использовании флота, так и в тактических действиях на море.
Первая мировая война, триумф морской мощи

В городе Анзак горят склады и боеприпасы, пока орудия HMS Cornwallis прикрывают отступление союзников из Галлиполи. Первая мировая война, триумф морской мощи.
Перед войной один французский генерал произнес знаменитую фразу о том, что британский флот не стоит и штыка. Хотя он и был прав, беспокоясь о первоначальном столкновении на сухопутных границах, он не осознавал, что способность Франции и Великобритании вести войну вообще зависела от морской мощи и решающей роли, которую она могла сыграть в любой войне, исход которой не был предрешён в ходе начальных переговоров. Если бы англо-французские армии были разгромлены в первых сражениях, как это произошло в 1940 году, флоты мало что могли бы сделать для исправления ситуации: тот факт, что армии не были разгромлены, но и не могли, в свою очередь, навязать свою волю противнику, гарантировал, что морская мощь сыграла жизненно важную, поистине решающую, роль в победе союзников. Эта роль была не слишком престижной, даже коварная, но именно морская мощь в конечном итоге подавила жизнь и волю Центральных держав. Официальные источники утверждают, что число жертв среди гражданского населения Германии в период с 1914 по 1918 год, непосредственно вызванное блокадой, достигало 800 000 человек. Безусловно, именно отчаяние в связи с перспективой пережить зиму 1918-1919 годов после катастроф предыдущей сыграло большую роль в крахе Германии осенью 1918 года.
В Первой мировой войне союзники обладали определёнными существенными преимуществами над Центральными державами, прежде всего значительным превосходством в численности кораблей всех типов и практически абсолютным географическим положением. Благодаря своему положению метрополии и империи, Британия находилась на торговых путях Центральных держав как в Средиземноморье, так и в Атлантике и, таким образом, могла пресечь практически всю торговлю своих противников, за исключением примечательного и важного – торговли Германии со Швецией.
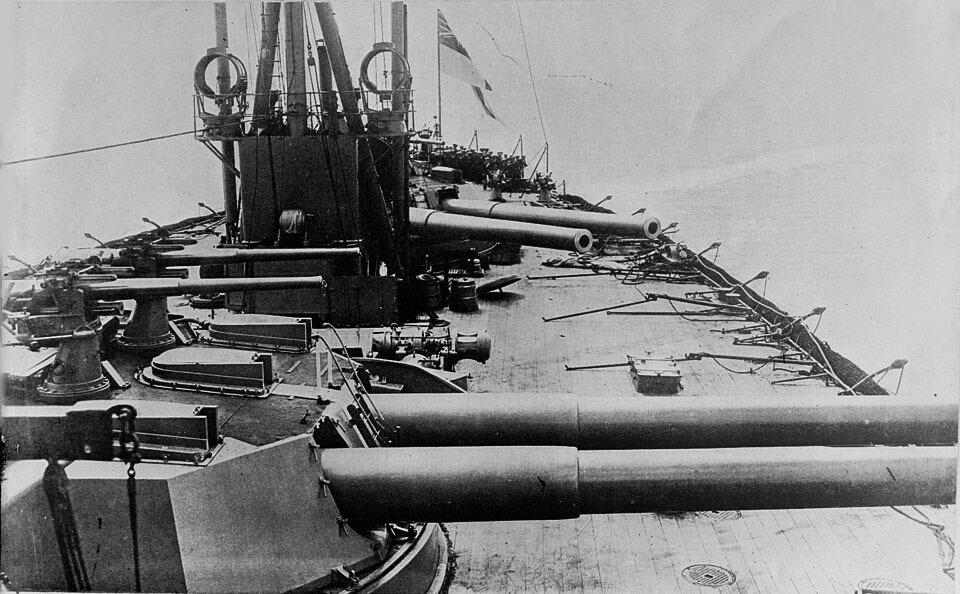
Крупный план 12-дюймовых орудийных башен британского дредноута с 12-фунтовыми скорострельными пушками на крыше. Особенностью многих дредноутов была одна или две башни, установленные в средней части корабля вблизи диаметральной плоскости для достижения максимальной огневой мощи.
Британская политика блокады осуществлялась тремя способами: базированием флота на севере Шотландии, патрулированием морей между Шотландией и Гренландией, а также между Шотландией и Норвегией, а также минированием и патрулированием Ла-Манша. Ла-Манш был заминирован, и проходы для судоходства оставались только между побережьем Кента и проливом Гудвина, что значительно облегчало британцам задачу перехвата любого торгового судна, проходящего через Дуврский пролив. На севере британцы начали войну, имея восемь старых крейсеров, достаточно хорошо вооруженных, чтобы противостоять любому вероятному противнику, для патрулирования путей в Германию: после ноября 1914 года реквизированные лайнеры использовались в качестве вооруженных торговых крейсеров для патрулирования этих вод. Последние имели большое преимущество перед военными крейсерами: хорошую скорость при необходимости и большую автономность: флагманский корабль, «Эльзасец», однажды ходил в патруле со скоростью тринадцать узлов в течение сорока дней.
На начальном этапе войны Северный патруль использовал линии поиска с кораблями, расположенными на расстоянии десяти миль друг от друга, к югу от Шетландских островов и к западу от Норвегии, но постепенно разрабатывал всё более сложные схемы патрулирования, которые оказались чрезвычайно эффективными в предотвращении прорыва блокады. Такие патрули не могли быть абсолютно эффективными, поскольку ночь и плохая видимость всегда давали нарушителям блокады шанс прорваться. Однако об успешности этих мер можно судить по тому факту, что с декабря 1914 года по июнь 1915 года было досмотрено более 1610 судов, и почти 400 были задержаны для дальнейшего досмотра. За весь 1916 год было досмотрено более 3000 судов. Такая политика неизбежно вступала в противоречие с нейтральными интересами, поскольку судоходство было очень прибыльным. Если судно задерживалось для досмотра, британцы могли его конфисковать, если оно перевозило военную технику, такую как оружие или взрывчатые вещества, или если можно было доказать, что определенные товары, такие как продовольствие или сырье, предназначались для вооружённых сил или правительства противника.

20 000-тонный дредноут HMS Hercules с десятью 12-дюймовыми орудиями двигался влево во время Ютландского сражения. Недостаточная система управления огнём, дым и темнота мешали линейному флоту, обладавшему непревзойденной орудийной мощью.
Некоторые товары, включая хлопок-сырец, нефть и каучук, были под запретом в соответствии с Лондонской декларацией 1909 года (которая так и не была ратифицирована Великобританией). К началу 1915 года, осознав, что война может быть долгой, британцы начали объявлять некоторые товары, относившиеся к категории «бесплатной» или «условной контрабанды», «абсолютной контрабандой». Они также стали ужесточать меры, хотя это и вызывало проблемы с такими странами, как Нидерланды и США. Только после вступления Америки в войну в 1917 году союзники смогли проигнорировать эти права, которые США отстаивали, не участвуя в ней. Тем временем британцы прибегали к различным уловкам, чтобы избежать трений с нейтральными странами: в августе 1915 года они объявили хлопок абсолютной контрабандой, не вызвав протеста со стороны Америки, поскольку уже скупили практически весь американский урожай; заключили двусторонние соглашения с норвежцами, датчанами и голландцами (1 сентября), чтобы гарантировать, что эти страны не будут поставлять Германии товары, которые им пропускала Британия. Они также прибегали к покупке целых грузов судов (выше рыночной стоимости) просто для того, чтобы избежать неприятностей.
Такими мерами британцы смогли подавить нейтральную оппозицию и ужесточить блокаду. После июля 1917 года союзники добавили в список условной контрабанды различные продукты питания и фураж, а в абсолютные или условные списки – практически все виды растительного, животного и натурального масла, практически все значимые руды, минералы и химикаты, большинство видов пряжи и целый ряд промышленных материалов и оборудования. Всего в запрещённых списках оказалось 238 наименований (исключая производные и побочные продукты). Последствия оказались катастрофическими. Уже в 1915 году урожайность в Германии начала падать из-за спроса на взрывчатые вещества и отсутствия импорта селитры. К 1918 году производство зерновых сократилось на 40% по сравнению с уровнем 1912–1913 годов; производство картофеля – почти на 50%, сахара – на 33%. Положение союзников Германии было ещё хуже. Крах произошёл не в действовавших армиях, а в стране в целом. Во многом это стало результатом превосходства союзников в военно-морской мощи.

Адмирал сэр Дэвид Битти. Его линейные крейсеры столкнулись с немцами во время сражения в Гельголандской бухте в 1914 году и получили серьёзный урон в Ютландском сражении в 1916 году. Его управление кораблями эскадры продемонстрировало незаурядное мастерство и мужество.
Политика блокады Дувра и северной Шотландии была принята в мае 1912 года, когда британские военные планы отказались от непосредственной блокады Германской бухты из-за опасности, исходящей от подводных лодок и мин. Только тогда Британия приняла политику дальней блокады, и даже тогда она мыслила в терминах наблюдательной блокады, протянутой через Северное море. Ранние потери в 1914 году вынудили её отказаться от наблюдательной линии, хотя и неохотно, поскольку это отдавало оборонительным менталитетом, который был анафемой для многих морских офицеров. Искупительной чертой блокады (для британского флота) было то, что её строгость могла вынудить германский флот выйти и сражаться: Королевский флот в целом был убеждён, что германский флот постигнет судьба прежних врагов. Подавляющая решительная победа была тем, чего требовала британская общественность; этого же ожидал и весь мир. Это была серьёзная проблема для Адмиралтейства и главнокомандующего Гранд-Флитом Джеллико, который не питал иллюзий относительно реального положения дел. Джеллико ясно понимал, что Британии не нужно сражаться, чтобы сохранить господство на море: она находилась в положении, когда ей достаточно было избежать поражения, чтобы держать Германию в узде, находясь в подчиненном положении. С другой стороны, он также понимал, что поражение на море повлечёт за собой непредсказуемые последствия – возможно, катастрофические для нейтралов – и оставит беззащитной перед атакой всю англо-французскую торговлю, от которой зависело выживание союзников. Таковы были стратегические соображения Джеллико. Его тактические рассуждения также носили оборонительный характер, и, будучи оборонительными, Джеллико частично лишался возможности решающего сражения, поскольку слабый германский флот скорее попытается избежать боя, чем принять его.

Адмирал флота Джон Рашворт Джеллико, 1-й граф Джеллико, GCB, OM, GCVO, SGM, DL* (кавалер Большого креста ордена Британской империи, кавалер Большого креста Королевского ордена Виктории, старший гвардеец Королевского ордена Виктории, старший гвардеец Королевского ордена Виктории) (5 декабря 1859 г. – 20 ноября 1935 г.) был офицером Королевского флота. Он участвовал в англо-египетской войне и Боксёрском восстании, а также командовал Гранд-Флитом в Ютландском сражении в мае 1916 года во время Первой мировой войны. Его руководство флотом в этом сражении было спорным. Джеллико не допустил серьёзных ошибок, и германский флот открытого моря отступил в порт, в то время как поражение было бы катастрофой для Великобритании, но общественность была разочарована тем, что Королевский флот не одержал более драматичной победы, учитывая численное превосходство противника. Позднее Джеллико занимал пост Первого морского лорда, курируя расширение военно-морского штаба Адмиралтейства и введение конвоев, но был освобожден от должности в конце 1917 года. В начале 1920-х годов он также занимал пост генерал-губернатора Новой Зеландии.
Джеллико хотел ввести немцев в бой при наиболее благоприятных для британцев обстоятельствах. Поэтому в своих тактических размышлениях он должен был учитывать, что, помимо ограничения дальности в 900 миль от своих баз (из-за ограниченной дальности плавания эскортных кораблей), он должен был избегать действий в южной части Северного моря, где угроза мин и торпед была наиболее высока. В связи с этой угрозой Джеллико дал ясно понять, что он не намерен подчиняться отвороту противника при контакте, поскольку это могло быть попыткой заманить британский флот в ловушку для подводных лодок или мин. Таким образом, два важных стратегических решения — географическое преимущество Британских островов по отношению к Германии и необходимость избежать поражения — усилили существующий страх перед новым и в значительной степени неиспытанным оружием и фатально ограничили агрессивное тактическое развертывание.
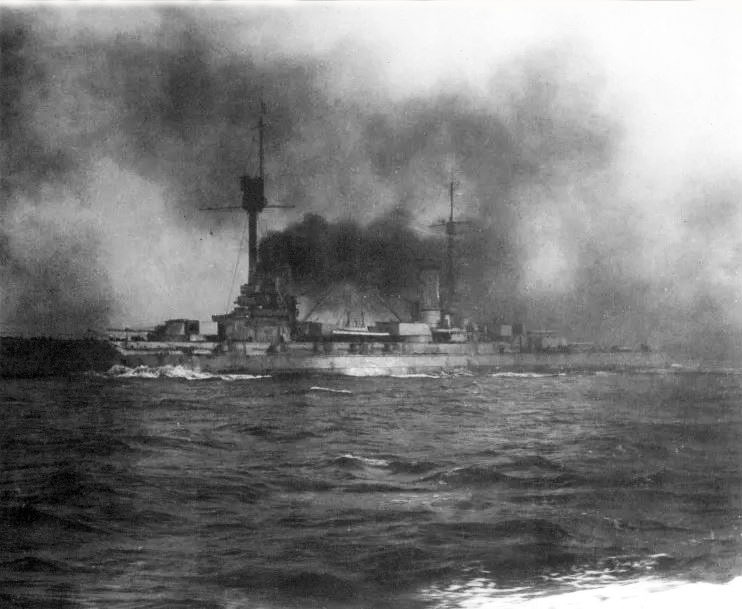
«Фридрих дер Гроссе» — линкор класса «Кайзер», вероятно, во время капитуляции в 1918 году. Корабли, работавшие на угле, создавали дым из дымовых труб, что могло стать помехой в бою. Во время сражения у Доггер-банки британцы надеялись занять позицию к востоку, которая отрезала бы немцев от портов базирования и дала бы Королевскому флоту преимущество в виде света и ветра, чтобы рассеять дым из дымовых труб.
Для немцев ситуация была совершенно иной. Они строили свой флот в соответствии с Военно-морскими законами 1898 и 1900 годов, сознательно стремясь добиться уступок от британцев: это привело лишь к отчуждению англо-германских отношений. Теперь, во время войны, флот был бессилен предотвратить исчезновение немецкой торговли с поверхности океанов, не принеся при этом никакой выгоды немцам за пределами Европы. Германская Тихоокеанская эскадра была фактически списана с началом войны; Хотя изобретательное и агрессивное управление этой эскадрой фактически привело к тому, что она просуществовала дольше и оказалась более полезной, чем могла бы быть в противном случае. Тем не менее, хотя германский флот в первые месяцы войны и был крайне неактивен в защите германских заморских интересов и торговли, он играл жизненно важную роль на протяжении всей войны просто как «действующий флот», который, оставаясь непобеждённым, предотвращал рассредоточение вражеского линейного флота и лёгких сил для выполнения других неотложных задач.
Поскольку британцам необходимо было сосредоточить все имеющиеся у них силы в Северном море, поскольку именно от немцев зависело, когда, если и какими силами предпринимать наступление, Королевский флот не мог направить значительную часть своих сил на второстепенные театры военных действий. Следовательно, весь потенциал морской мощи не мог быть полностью реализован, пока немецкий флот оставался нетронутым. Более того, для немцев линейный флот служил линией обороны, обеспечивающей ограниченную тактическую мобильность лёгких надводных кораблей и дальнюю поддержку рейдеров. Пока Флот Открытого моря оставался нетронутым, британские тральщики и минные заградители не могли войти в Германский залив, чтобы попытаться запереть немцев в своих гаванях. Если бы они это сделали, лёгкие немецкие силы оказали бы им противодействие, и любое расширение масштабов действий привело бы к тому, что британская линия фронта оказалась бы втянутой в южную часть Северного моря, очень близко к Германии и далеко от своих собственных баз. Гранд-Флит мог позволить себе нести потери в Германском заливе только в том случае, если бы немецкий линейный флот уже был потоплен; Пока он оставался, у британцев не было возможности рискнуть и глубоко проникнуть в Северное море.
Таким образом, у торговых рейдеров оставалось достаточно места для выхода в море. Однако немецкий линейный флот не был просто пассивен. Он, как и Гранд-Флит, стремился к сражению, но только на своих условиях, и эти условия включали предварительное уравнивание сил минно-торпедной борьбой, которая, по сути, так и не была реализована. Если немцы не могли уменьшить превосходство противника или захватить лишь часть Гранд-Флита, они не были готовы к открытому бою. Учитывая это нежелание стоять и сражаться, Королевский флот мало что мог сделать, чтобы форсировать события. По большей части немцы довольствовались использованием своих основных флотов в небольших операциях, а не в боевых действиях против британцев. Такие операции включали сотрудничество с армией на Балтике против русских, незначительные в военном отношении, но политически и морально выгодные рейды типа «бей-и-беги» на восточное побережье Англии, а также совместные с армией операции против русских на Балтике.
Операции против восточного побережья Англии должны были быть достаточно безопасными, учитывая, что база Гранд-Флита в Скапа-Флоу находилась так далеко, что немцы могли обоснованно рассчитывать оказаться на полпути домой до того, как британцы успеют отреагировать. Эта надежда оказалась необоснованной, поскольку разведывательная служба Адмиралтейства была весьма эффективна и, благодаря захваченным русскими кодовым книгам, найденным на потерпевшем крушение крейсере «Магдебург», могла читать немецкие радиоприказы с той же скоростью, что и их получатели. Таким образом, когда в январе 1915 года немцы совершили вылазку основными силами из трёх линейных крейсеров и одного броненосного крейсера к Доггер-банке с намерением помешать британским рыболовецким и военно-морским силам, которые могли находиться в этом районе, британцы смогли выставить против них пять линейных крейсеров. (Гранд-Флит оказывал им непосредственную поддержку, хотя в этот раз так и не вступил в бой.)
Последующий бой был крайне запутанным: лёгкие крейсеры и эсминцы, действовавшие в качестве разведки, столкнулись на флангах основных сил. Когда немцы поняли, что столкнулись со значительно превосходящими силами противника и что у них нет никакой возможной поддержки, они попытались уйти на юго-восток. Британцы предпочли бы обойти немецкие тылы, чтобы занять позицию к востоку от них, где они имели бы преимущество в свете, ветре (чтобы рассеять дым из дымовых труб) и выгодное положение между немецкими кораблями и их базами, но страх перед минами помешал им двигаться в этом направлении. Последовавший бой, таким образом, представлял собой упорное преследование, в котором арьергард немецкой линии и авангард британских сил подверглись серьёзным испытаниям по мере сближения дистанций. В ходе боя тактическое развертывание британских кораблей было ошибочным: самый медленный корабль в линии остался позади, что несколько уменьшило преимущество численного превосходства, а распределение огня британцев было крайне неточным.
Первые два британских корабля верно взяли на себя немецкий головной корабль (хотя и без точного наблюдения), а третий и четвёртый британские корабли вступили в бой со своими противниками, оставив второй немецкий корабль нетронутым. Первые три немецких корабля вступили в бой с британским флагманом, который, получив тяжёлые повреждения, был вынужден выйти из строя. При этом он отдал ряд крайне запутанных приказов, которые привели к тому, что оставшиеся четыре линкора прекратили бой и вместо этого развернулись против повреждённого броненосного крейсера, покинувшего немецкий строй примерно пятнадцатью минутами ранее. Неудачная сигнализация флагами (радиостанция была сбита), безынициативность со стороны подчинённых, которые беспрекословно выполняли приказы, несмотря на боевую обстановку, плохая артиллерийская стрельба и полная неразбериха лишили британцев того, что могло бы стать значительной победой, хотя большинство уроков, которые можно было бы извлечь из битвы, были утеряны в эйфории.
Единственное кратковременное военно-морское сражение в этой войне произошло в Ютландском сражении (31 мая/1 июня 1916 г.). Давление блокады, нерешительные бои при Вердене и необходимость для германского флота предпринимать какие-либо действия, чтобы оправдать своё существование и поднять боевой дух, побудили немцев искать способ уничтожить часть Гранд-Флита. С самого начала немцы не планировали длительных боевых действий против превосходящих сил, а скорее надеялись провести «демонстрацию» у берегов Норвегии или Дании и, возможно, заманить часть британских сил на свою линию фронта, действуя в поддержку демонстрационных сил (линейных крейсеров). Они также стремились использовать подводные лодки в качестве разведывательных сил и для атак при первой возможности, в соответствии со стратегией сокращения британского численного превосходства. Британцы, осведомлённые превосходной разведкой, знали о готовящейся подобной операции и аналогичным образом распределили свои силы, разместив линейные крейсеры в авангарде и обеспечив поддержку боевым флотом. В общей сложности британцы развернули 28 линкоров, 9 линейных крейсеров, 1 гидроавианосец и 112 крейсеров и эсминцев; немцы имели 16 линкоров, 6 линкоров додредноутного типа, 5 линейных крейсеров и 72 крейсера и эсминца.
Более полную информацию о этих событиях можно посмотреть в разделе: "Мировая история сражений 6-10" "Ютландское сражение"
Первый контакт между крейсерами соединения линейных крейсеров состоялся в 14:20. Британские линейные крейсеры повернули на юго-юго-восток, чтобы вступить в бой с немецкими линейными крейсерами, которые, в свою очередь, отошли к немецкой линии фронта. Из-за сбоя в работе сигналов британские линейные крейсеры вступили в бой, имея преимущество лишь шесть к пяти, поскольку четыре быстроходных линкора поддержки не получили приказов. Таким образом, из-за отсутствия более половины орудий в начальной перестрелке британцы не смогли максимально использовать своё преимущество, в то время как проблема Доггер-банки, а именно неправильное распределение огня, повторилась. В ходе так называемого «забега на юг» британцы потеряли «Индефатигейбл» и «Куин Мэри». Однако по мере того, как линкоры, срезая углы, выстраивались в линию, потери немецкой линии фронта росли. Кульминация этой фазы боя наступила в 16:30, когда, с сокращением дистанции, обе стороны начали массированную атаку эсминцами на линию противника. Когда эсминцы столкнулись, обе стороны потеряли по два корабля, обе боевые линии развернулись в соответствии с тактической доктриной, и контакт был временно потерян.
Когда обе стороны развернулись для возобновления контакта, британские лёгкие крейсеры в авангарде обнаружили перед собой всю немецкую боевую линию. Их донесения в соединение линейных крейсеров позволили британским кораблям совершить поворот на шестнадцать румбов и изменить курс, чтобы привлечь немцев к Гранд-Флиту, точно так же, как они сами были привлечены к немецкой боевой линии. Поскольку британцы поворачивали последовательно через заданную точку, а не одновременно, последние корабли в линии (линкоры) понесли тяжёлые потери. Но в «Рубеже на север» световые условия на этот раз были благоприятными для британцев, и немецкие линейные крейсеры понесли ещё большие потери, настолько, что авангард был вынужден отступить и использовать торпедные атаки, чтобы ослабить давление. В этой схватке немецкие крейсеры серьёзно пострадали от своевременного вмешательства большего количества британских линейных крейсеров, действовавших в качестве авангарда Гранд-Флита. Это вмешательство позволило защитить развертывание Гранд-Флита в боевой порядок и скрыть его присутствие от немецких разведывательных сил, чьи действия на протяжении всего боя были невпечатляющими.
Хотя линейные крейсеры крайне плохо справлялись с ролью разведки и были серьёзно затруднены неизбежными навигационными несоответствиями, окончательное развертывание Гранд Флита из крейсерского в боевой порядок для первой фазы действий линейного флота было мастерским, поистине редко, если вообще когда-либо, превзойдённым. Развертывание с востока-юго-востока от левой колонны обеспечило пересечение линии немецкого наступления и её огибание, тем самым обеспечив жизненно важную позицию между противником и его базой; это также позволило британцам максимально использовать ухудшающуюся освещённость и предотвратить маскировку орудий во время развёртывания. Более того, любое другое движение вполне могло вывести линию в зону торпедной атаки, ещё не полностью развёрнутой. Хотя немцы пытались отбиваться, столкнувшись с, казалось бы, сплошным горизонтом британских линкоров, Мощный огонь вынудил их сдаться, поскольку авангард был лишён большей части своей мощи из-за маскировки батарей.
Чтобы выпутаться, немцы совершили поворот на шестнадцать румбов, изменив порядок своей линии, поскольку корабли развернулись вместе, и уведя их от британской линии. Этот манёвр был проведён под прикрытием дымовой завесы и торпедной атаки, и мастерство, с которым он был выполнен, в сочетании с дымом и слабым светом, привело к тому, что британцы потеряли контакт. Те корабли, которые видели манёвр, не доложили о нём Джеллико. Гранд Флит не сразу повернул к противнику. Из-за приближающихся сумерек — к этому времени было около 18:42 — и опасения торпед, британцы были обеспокоены сохранением численности флота и позиций между противником и его базами, поскольку Джеллико был уверен в возобновлении действий утром.

Война и торговля: Конвой в конце Первой мировой войны; группировка кораблей давала подводным лодкам лишь одну возможность атаковать, прежде чем они сами подвергались атаке.
Британцы двигались эшелоном на юго-запад, а затем на юг, частично маскируя друг друга, когда около 19:10 снова оказались на пересечении немецких линий. Немцы, отступив назад на ещё один поворот на шестнадцать румбов, попытались проскользнуть в тыл британской линии в последних лучах солнца, но случайно попали в её центр. Немцы снова подверглись беспощадной атаке и были вынуждены снова изменить строй под прикрытием дыма и провести торпедную атаку и самоубийственный рывок линейных крейсеров, чтобы привлечь на себя огонь. На этот раз британской линии обороны пришлось резко отвернуть, чтобы уйти от торпед, и в результате они потеряли контакт и больше его не восстановили, хотя линейные крейсеры обменялись огнем между 20:23 и 20:40 — последний случай в Первой мировой войне, когда крупные корабли британского и германского флотов вступили в бой друг с другом.

Британский флот открытого моря в Северном море.
С наступлением темноты тактическое положение изменилось: британцы намеревались отказаться от действий; немцы были полны решимости прорваться к своим базам любой ценой, поскольку альтернативой было бы уничтожение следующим утром. По большей части им это удалось. Британские эсминцы, выставленные за линией фронта для предотвращения такого прорыва, просто не имели достаточной мощи, чтобы остановить немецкий удар; эсминцы добились некоторых успехов, но понесли очень тяжелые потери в одностороннем бою, в котором у немцев было преимущество в виде знания британского ночного вызова. К следующему утру немцы были на берегу Гранд Флита и были в безопасности. В целом ни одна из сторон не потеряла ни одного линкора, хотя немцы потеряли предредноут: британцы потеряли три линейных крейсера против единственной немецкой потери; три броненосных крейсера против четырех потопленных немецких легких крейсеров и восемь эсминцев против пяти немецких потерь. Учитывая баланс военно-морских сил, общие потери были примерно равными.
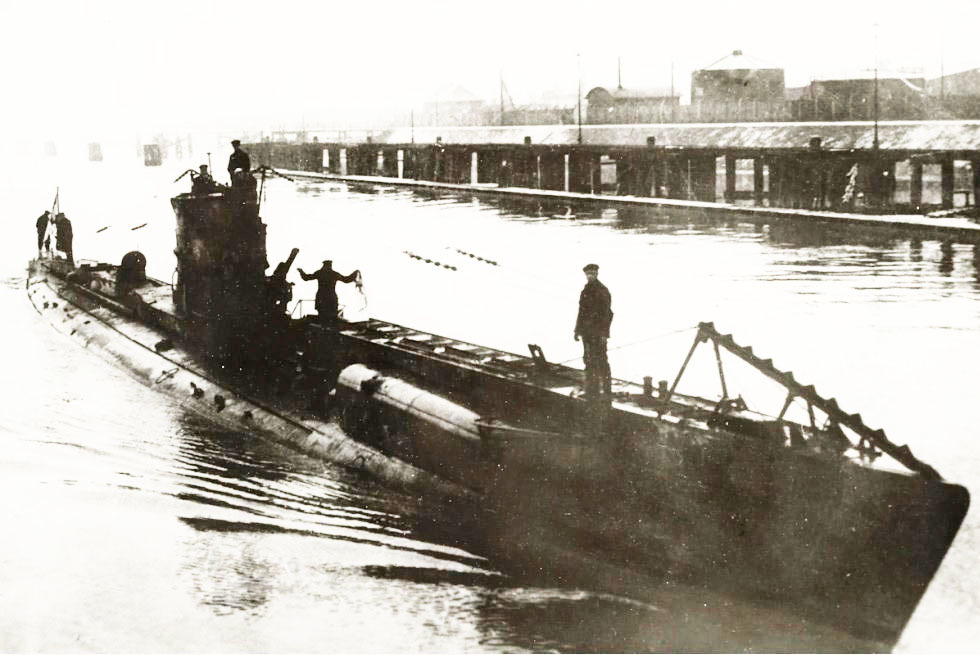
UC-71, одна из подводных лодок, использовавшихся немцами в Первой мировой войне. 8 августа 1917 года она вела ожесточённый четырёхчасовой бой с кораблём «Q» HMS Dunraven.
Тактически бой завершился вничью, немцы немного перевесили потери. Однако в стратегическом плане битва стала решающей победой британцев: их контроль над водной поверхностью сохранился, а блокада не была прорвана. Более того, ни разу за всю войну немцы не пытались вступить в бой с флотом. Этот бой мог бы, и, возможно, должен был быть, более тотальным для британцев. Материальные недостатки (низкое качество снарядов, отсутствие противовзрывных устройств в погребах, слабая броня линейных крейсеров), тактическая негибкость, чрезмерная осторожность, откровенная некомпетентность в некоторых случаях, злоупотребление разведданными и, прежде всего, незнание позиций и сил противника (в эпоху до появления радаров) – всё это лишило их возможности одержать полную победу. Немецкая тактика в обороне, напротив, была гибкой и блестяще реализованной, хотя тот факт, что они дважды оказались в крайне невыгодных позициях, умаляет тактический гений их командиров.
Поскольку Ютландское сражение завершилось для немцев безрезультатно, им пришлось искать другие способы довести войну на море до успешного завершения. Хотя столкновения лёгких сил продолжались в районе Ла-Манша большую часть оставшейся части войны, основная тяжесть германского флота была переключена на подводную кампанию против торговли. Германия, по сути, провела две ограниченные подводные кампании до Ютландского сражения, но обе были прекращены, когда американские протесты приняли такую остроту, что немцы к ним прислушались. Тем не менее, к 1917 году, когда стратегическое положение Германии становилось всё более сложным – тупик на Западном фронте, отсутствие перспектив победы на Востоке, растущая эффективность блокады и растущее оцепенение, вызванное осознанием ухудшения ситуации, – германский военно-морской штаб подсчитал, что, основываясь на опыте предыдущих кампаний, немецкие подводные лодки могли потопить 600 000 тонн судов в месяц. По их оценкам, это вынудило бы нейтралов разорвать торговлю с Великобританией и, как следствие, вынудило бы Великобританию выйти из войны. Расчёт заключался в том, что даже если США вступят в войну в результате неограниченной подводной войны, Британию можно будет разбить до того, как американское вмешательство станет эффективным. После выхода Великобритании из войны французы и русские не представляли реальной угрозы.
В первой половине войны немецкие подводные лодки без труда топили торговые суда, если им разрешали это делать по приказу. Подводные лодки могли просто патрулировать или ждать на морских путях, прекрасно зная, что рано или поздно по ним пройдут торговые суда. Хотя подводная лодка шла в атаку под водой, наиболее излюбленным способом потопления корабля был артиллерийский огонь или заряды, заложенные абордажной командой: командиры не хотели тратить свой скудный запас торпед на слабые и безобидные торговые суда.
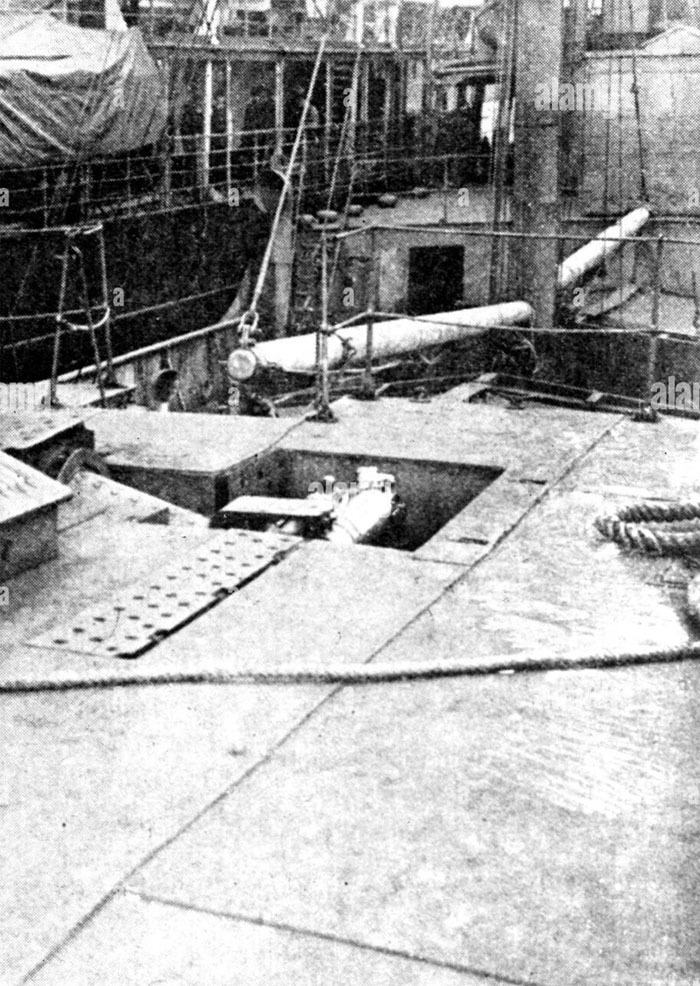
12-фунтовая скорострельная пушка в скрытом положении на корабле типа «Q» HMS Hyderabad. Корабли типа «Q» были торговыми судами со скрытым вооружением, которые, под командованием экипажей Королевского флота, действовали в водах, кишащих подводными лодками. Подводные лодки часто всплывали для обстрела грузовых судов или проверки груза, что означало, что они попадали в зону поражения скрытых орудий корабля типа «Q».
Проблема заключалась в том, что подводной лодке приходилось всплывать для выполнения таких задач, и было сложно отличить безобидные торговые суда от тех, которые были опасны, поскольку британцы прибегали к использованию кораблей типа «Q» (замаскированных торговых судов с мощным артиллерийским вооружением, задача которых заключалась в том, чтобы выманить подводную лодку на прямую дистанцию, имитируя панику, а когда противник был близко, сбросить маскировку и уничтожить подводную лодку подавляющей огневой мощью или тараном). Главным ответом британцев на подводные лодки стало неустанное патрулирование морских путей, кропотливый поиск неуловимых врагов, которые обычно могли ускользнуть незамеченными, поскольку имели преимущество первого обнаружения. Такие патрули действовали в условиях серьёзных ограничений. Во-первых, до 1916 года не существовало средств обнаружения или атаки подводных лодок, находящихся под водой, и даже после этой даты, с появлением гидрофонов и глубинных бомб, оставалось множество проблем, которые необходимо было преодолеть. Во-вторых, патрулирование не обеспечивало немедленной защиты торговых судов, поскольку последние оставались беззащитными на протяжении всего своего перехода. Короче говоря, из-за слабости британских сил единственным ограничением на количество торговых судов, которые могли быть потоплены немецкими подводными лодками, были их дальность плавания, вооружение и боевые порядки, а также количество обнаруженных торговых судов союзников.
Крах британских тактических идей был настолько велик, что за первые три месяца неограниченной подводной кампании было потеряно около двух миллионов тонн грузов. Пик британского везения пришёлся на апрель 1917 года, когда было потеряно 430 судов общим водоизмещением 843 549 тонн, при этом соотношение торговых судов к подводным лодкам достигло 167:1. Подводные лодки просто обезумели, и поражение было неизбежным, если британцы не предложат быстрого решения. Поскольку Адмиралтейство было парализовано нерешительностью, французам, а затем и британскому премьер-министру пришлось навязывать эксперимент с конвоями сопротивляющемуся британскому Адмиралтейству.
Конвоирование войск существовало с самого начала войны, но, хотя торговые конвои уже существовали в предыдущих войнах с участием Великобритании, и их эффективность была признана, в Первой мировой войне их потенциал поначалу игнорировался. (Торговые конвои были обязательными во многих войнах с участием Великобритании, но Адмиралтейство отказалось от них в XIX веке, посчитав, что паровая тяга обесценивает эту концепцию: было удобно забыть, что принципы войны в целом остаются неизменными, несмотря на технический прогресс.) Фактически, ценность конвоя была двойной. Во-первых, группа торговых судов под эскортом представляла собой единую концентрированную цель. Это означало, что у подводной лодки был только один шанс обнаружить корабли и лишь мимолетные возможности атаковать некоторые из них; то же количество кораблей, идущих независимо по тому же курсу, представляло собой единичные наблюдения и лёгкие цели. Если подводная лодка вообще не обнаруживала конвой, то корабли были в безопасности. Во-вторых, чтобы атаковать корабли в конвое, подводной лодке нужно было подойти в зону досягаемости эскорта, тем самым подставив себя под ответный удар. Таким образом, конвой способствовал как концентрации сил со стороны обороны, так и экономии усилий, поскольку это означало, что нужно было обследовать только воды непосредственно вокруг конвоя, поскольку именно в этих водах подводные лодки были вынуждены действовать для потопления торговых судов. В целом, конвой вынуждал подводные лодки атаковать силу, а не слабость, в условиях, которые становились всё менее благоприятными для них.
Из-за катастрофических потерь к концу 1916 года (40% только в декабре) французы в 1917 году настояли на конвоировании своей угольной торговли с Великобританией: без британского угля французская промышленность фактически пришла бы в упадок. В результате введения конвоев между Южной Англией и Францией в 1917 году потери резко сократились. Под давлением британского премьер-министра Дэвида Ллойд Джорджа, Адмиралтейство 26 апреля 1917 года разрешило океанские конвои; первый конвой вышел из Гибралтара в Великобританию 10 мая; регулярные конвои начали функционировать в июле. Изначально система конвоев имела два недостатка.

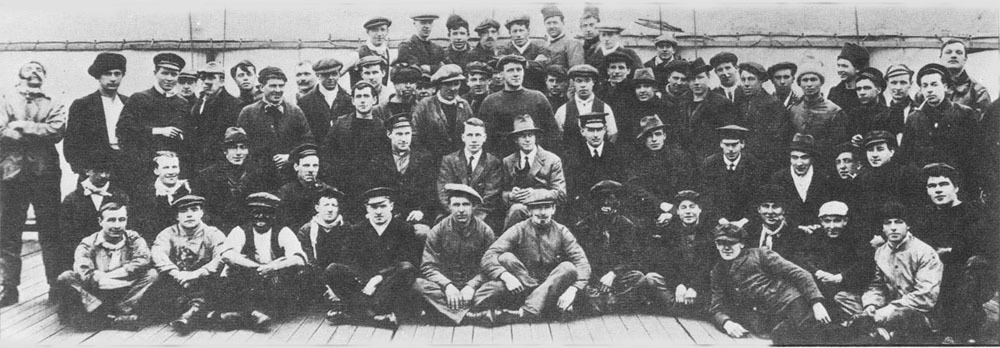
Экипаж RN (сверху) и «торговый» экипаж (ниже) судна «Q» HMS Hyderabad. Когда суда «Q» начали действовать, подводные лодки топили грузовые суда торпедами, но часто после этого всплывали. Экипаж «торгового» судна «паниковал» и покидал судно после контакта с подводной лодкой, оставляя на борту основной экипаж (экипаж RN), чтобы атаковать подводную лодку при её приближении.
Вопреки здравому смыслу, конвои рассредоточивались в Ла-Манше, чтобы суда могли самостоятельно добираться до своих портов; суда, направлявшиеся в другие порты, шли самостоятельно. Поэтому основной стратегической схемой было обеспечение защиты вплоть до того момента, когда это было наиболее необходимо. Только в августе 1917 года были организованы конвои, и только в ноябре 1917 года конвои были расширены вплоть до отдельных портов. Но постепенно все наиболее уязвимые маршруты — Атлантика, Гибралтар — Великобритания, Средиземное море и прибрежные воды Великобритании — были охвачены двусторонними конвоями.
В целом результаты были ошеломляющими. Во время войны немцы потопили почти 13 миллионов тонн грузов, из которых 7 3/4 миллионов были британскими. Но из 16 070 судов, плававших в океанских конвоях, было потеряно только 96, а из 67 888 рейсов в прибрежных конвоях было потеряно 161. Потери среди отставших и независимых судов были гораздо больше, но никогда не давали немцам никаких шансов на победу. Было потеряно всего пять кораблей, когда они шли в сопровождении как морских, так и воздушных эскортов. Короче говоря, конвои резко сократили потери. В ноябре 1917 года потери были самыми низкими с начала кампании в феврале, несмотря на то, что в октябре немецкие подводные лодки достигли пика своей мощи с семьюдесятью судами в море. К сентябрю 1918 года потери сократились до менее чем сотни, а в октябре 1918 года было потеряно только двадцать пять торговых судов союзников, хотя эти цифры отражают ограничения, наложенные на операции подводных лодок, пока немцы добивались перемирия. Конвоирование не только привело к уменьшению числа потопленных кораблей — а это означало, что судостроение союзников могло с лихвой компенсировать потери — но и позволило союзникам начать массовое потопление подводных лодок. То, что глубинные бомбы унесли свою первую жертву 26 марта 1916 года, и то, что сочетание глубинных бомб и гидрофона привело к первому поражению 6 июля 1916 года, были эффективными демонстрациями того, что подводным лодкам можно эффективно противостоять. Уровень потерь среди подводных лодок в период с августа 1917 года по январь 1918 года, когда вопрос был решен, был больше, чем возможности Германии по замене. В то же время соотношение обмена торговых судов на подводные лодки упало до 10:1. Всего в ходе войны было потеряно 178 из 373 немецких подводных лодок, большинство из них — после введения конвоирования.
Таким образом, стратегическое и тактическое значение конвоев было хорошо проиллюстрировано событиями Первой мировой войны. Немецкая подводная кампания провалилась не из-за значительных потерь, понесенных подводными лодками, а из-за того, что подводные лодки не смогли поддерживать высокий уровень потоплений, достигнутый ими в период с февраля по апрель 1917 года. Благодаря политике конвоев, безжалостному нормированию в Великобритании и концентрации судоходства на критическом торговом пути между США и Великобританией, британцы смогли экономно использовать судоходство. Немцам также мешали контрмеры союзников в Ла-Манше, где минные заграждения были значительно усилены, а патрули усилены, чтобы не допустить прохода немцев через Дуврский пролив. Вместо этого им пришлось двигаться в Германию и из Германии в зоны боевых действий через север Шотландии, что было трудоемким маршрутом с небольшим количеством целей, что делало проход прибыльным. Такими методами союзники смогли лишить немцев стратегической победы, к которой они стремились, а неудача в победе на морских путях сделала поражение Германии еще более неизбежным, когда весной 1918 года американские войска начали высаживаться в Европе. Тем не менее, несмотря на эту неудачу, подводные лодки действительно помогли связать легкие силы союзников, выполняя обязанности по сопровождению, и, как следствие, не смогли принять участие ни в одном предложении по более агрессивному использованию морской мощи союзников.
Теоретически, учитывая превосходящую морскую мощь и преимущество внешних коммуникаций, союзники должны были иметь возможность использовать большую гибкость морской мощи, чтобы навязать свою волю противнику серией независимых морских атак. На практике короткая береговая линия Германии и Австро-Венгрии в сочетании с мощью мин и торпед делала эти страны практически полностью неуязвимыми для морских атак. Первые несколько месяцев войны были отмечены неустанными поисками британским Адмиралтейством возможности морского наступления, отчасти в надежде, что это вынудит немцев вступить в бой, отчасти для того, чтобы заставить противника подчиниться британским стратегическим намерениям. Предлагались различные планы, большинство из которых были бессмысленными. Были планы захватить немецкий остров в Северном море – или голландский остров, или датский или норвежский город – казалось, это не имело особого значения; Было предложено совершить односторонний рейд вверх по Эльбе для атаки на Гамбург 2, Брунсбюттельский и Кильский каналы; существовали планы высадки на побережье Шлезвиг-Гольштейна и на Балтике, хотя то, как эти операции будут осуществляться в условиях немецких и датских мин, без особой защиты миноносцами, изначально не рассматривалось всерьёз. Впоследствии все эти проекты столкнулись с настолько серьёзными проблемами, что от них пришлось отказаться: трудно удержаться от вывода, что их вообще не следовало рассматривать. Не считая презренно некомпетентных высадок в Танге в ноябре 1914 года, британцы предприняли лишь одну крупную попытку обойти сухопутные фланги Германии с помощью морской мощи.
Так было с блестяще задуманной и совершенно нереалистичной операцией в Дарданеллах. С самого начала кампании аргументы в пользу этой операции имели три стратегических недостатка. Во-первых, хотя и признавалось, что самый длинный путь в обход часто оказывается самым коротким, идея нанесения смертельного удара по Германии через Турцию – выбивания опоры – подразумевала несуществующие отношения между Германией и Турцией. Центральной проблемой в разгроме Германии должна была быть германская армия, а не Турция. Удар по месту, где немцы не могли нанести ответный удар, в конечном итоге обернулся ударом по месту, где немцев невозможно было коснуться. Более того, идея о том, что балканские государства могли стать ключом к победе, открыв новый фронт, сомнительна, поскольку вместо того, чтобы оказывать поддержку союзникам, эти страны легко могли стать обузой и обязательствами, которые необходимо было выполнять. Во-вторых, операция проводилась в то время, когда у британцев (и французов) не хватало сил для поддержания боевых действий даже на одном фронте, не говоря уже о втором, на дальнем конце Средиземноморья. Дарданелльская операция была попыткой одержать победу дешёвыми средствами, и в этой попытке союзники потратили в целом больше сил, чем это было реально необходимо для проведения тщательной и должным образом подготовленной операции.
Более того, даже если бы операция увенчалась успехом и был бы получен доступ к южнорусским портам, трудно представить, откуда могли бы появиться корабли и припасы, которые должны были чудесным образом удержать Россию в состоянии войны, учитывая тот факт, что большинство поставщиков грузов и оружия уже были на стороне Великобритании и Франции. В-третьих, и наконец, сложившееся зимой 1914-1915 годов представление о том, что флот в одиночку способен форсировать Дарданеллы, полностью противоречило оценкам штаба до 1914 года; все они подчёркивали, что любая операция в Дарданеллах неизбежно будет рискованной и потребует совместных усилий армии и флота. Зимой 1914 года состояние эйфории, безрассудные личные амбиции и безответственность Черчилля, а также значительная доля откровенного невежества и расового презрения к туркам привели к разработке плана исключительно морского наступления. Однако любое такое наступление было сопряжено с двумя непосредственными причинами. Во-первых, даже если бы флоту удалось прорваться через Дарданеллы, не было никакой гарантии, что это можно будет превратить в решающий стратегический успех, если только его фланги не будут очищены: очистить и удержать фланги могла только армия.
Во-вторых, суть проблемы форсирования Дарданелл заключалась в том, что мины блокировали проход и прикрывались артиллерией. Из-за быстрого течения воды примитивные тральщики не могли обезвреживать мины из-за неприемлемо высокой огневой мощи, с которой им приходилось сталкиваться. Этот артиллерийский огонь не мог быть подавлен остальной частью флота, поскольку минные поля препятствовали ближнему бою кораблей. Единственным способом разорвать порочный круг было захватить орудия, прикрывавшие минные поля, с суши, используя армию для захвата позиций противника. Черчилль, опьянённый первыми успехами флота в борьбе с обветшалыми внешними укреплениями, выдвинул план исключительно морского наступления. Неуклонное разрушение обороны прекратилось 11 марта 1915 года, и флот не смог продвинуться дальше. Последовала зловещая пауза в британских дискуссиях, пока обсуждались вопросы о том, стоит ли начинать вторжение и какими силами, и принимались меры. 18 марта флот предпринял последнюю попытку, включавшую восемнадцать линкоров, включая новейший «Куин Элизабет», прорвать ещё нетронутую оборону. Попытка была близка к успеху: турки почти исчерпали боезапас, отбиваясь от кораблей. Однако в ходе боя три крупных корабля были потеряны, а ещё три получили серьёзные повреждения.
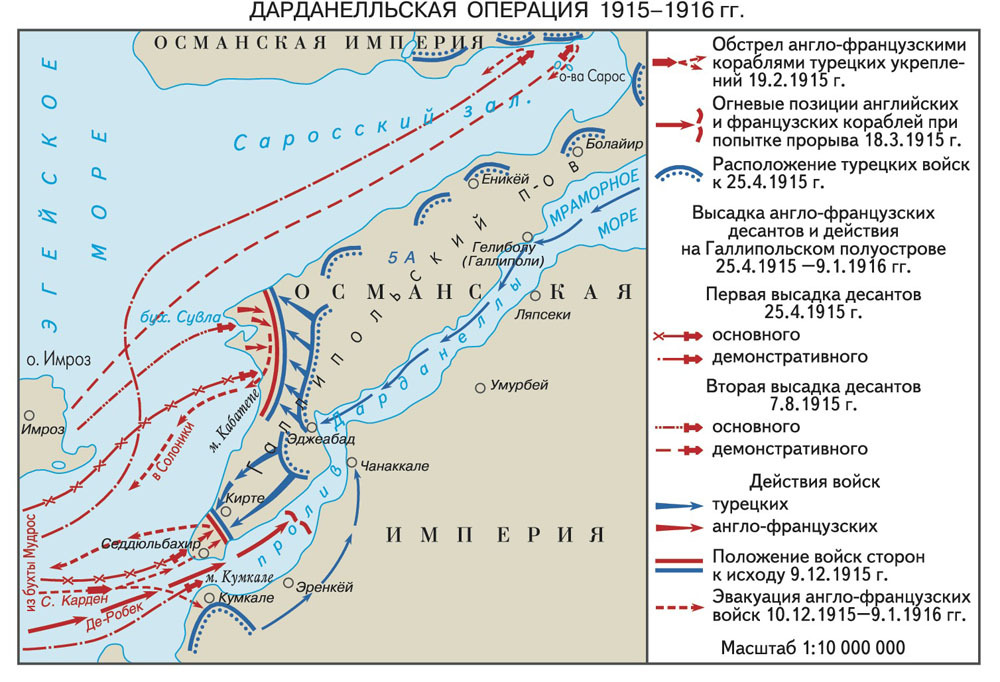
Дарданельская операция 1915 - 1916 годов.
Командующий флотом не желал рисковать большим количеством своих кораблей в последнем усилии, которое могло оказаться решающим. На протяжении всей операции, по-видимому, больше внимания уделялось сохранению кораблей, чем признанию того факта, что потери можно было бы перенести, если бы стратегическая цель была достигнута. В качестве смягчающего обстоятельства следует отметить, что причина потерь в то время была неизвестна, и слабость турецкого положения на суше, очевидно, не была осознана. Поскольку армия не была готова начать операцию, атаки пришлось временно отменить, и только 25 апреля 1915 года высадка на Галлиполийский полуостров состоялась.

Генерал-лейтенант сэр У. Р. Бёрдвуд, руководивший отходом из Галлиполи. Эта операция стала образцом для эвакуации из Арнемского котла во Второй мировой войне.
Многое пошло не так: некоторые высадки были произведены на неправильных пляжах, огневая поддержка с кораблей оказалась недостаточной из-за неадекватности управления огнем, и на пляже V царил полный хаос, где атакующая пехота была вырублена целыми полосами уцелевшими пулеметами. Но, несмотря на это, критически важная деревня Крития могла быть взята 25-го числа, а господствующая высота Ачи-Баба могла быть взята несколько раз. Если бы последняя пала, исход мог быть совершенно иным, но фактически турки полностью её удерживали. В конечном счёте, несмотря на героические усилия сухопутных войск, британцам пришлось признать неудачу, и полуостров был постепенно эвакуирован благодаря блестяще организованному отступлению, которое прошло без единой потери, несмотря на присутствие противника.
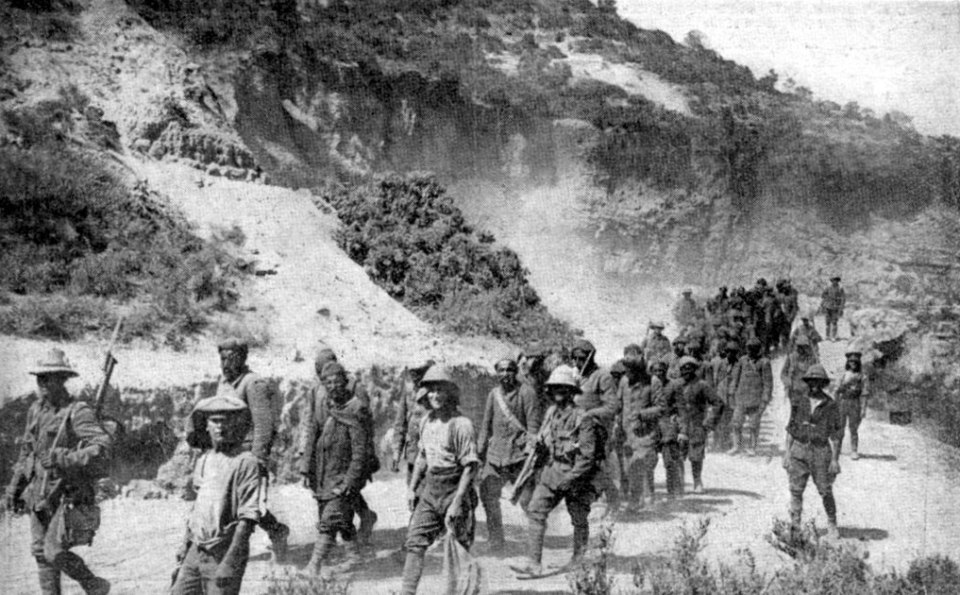
Турецких пленных ведут на пляжи Галлиполи.
Дарданелльская операция иллюстрирует ограниченность морской мощи и её зависимость от надлежащей координации с другими службами. В ходе самой операции была выявлена необходимость в специализированных штабных кораблях для десантных операций: часть трудностей, возникших 25 апреля, была связана с тем, что штаб армии находился на борту корабля, которому предстояло выполнить собственные задачи. Высадка подчеркнула необходимость надлежащего управления огнём и использования десантных средств, а также важность надлежащей организации погрузки и доставки, чтобы гарантировать, что наиболее важные грузы будут загружены в последнюю очередь и доставлены в первую очередь. Кроме того, потребность в адекватном медицинском обслуживании была совершенно очевидна для тех, кто находился в Дарданеллах, что было бы несправедливо по отношению к Крыму. Тем не менее, Дарданеллы несколько раз были очень близки к решающему успеху британцев.
Если бы на начальном этапе было проявлено больше осторожности, это вполне могло бы стать мерой, которая выбила бы Турцию из войны и могла бы привести к ситуации, которую утверждают некоторые из ее сторонников. Но это всего лишь предположение. Несомненно то, что Дарданеллы отметились впечатляющей серией «первых»: впервые подводная лодка потопила линкор торпедами; впервые произошло воздушное обнаружение орудий; и впервые самолеты потопили корабли в открытом море с большим количеством свободного пространства. Хотя на других театрах военных действий были и другие достижения — например, на Балтике и русские, и немцы использовали воздушные мины, — Дарданеллы ознаменовали дебют оружия, которое стало в значительной степени фигурировать в тактических и стратегических аргументах межвоенного периода и которое доминировало в войне на море между 1939 и 1945 годами.

