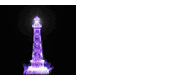Бегство из золотой клетки - 8
- Опубликовано: 02.07.2023, 07:50
- Просмотров: 30574
Содержание материала
Приближалось тогда Рождество — всегда радостное время на Западе, время надежд на будущее, семейных встреч, музыки, кэролс, взаимных посещений и обязательного подношения подарков. Наше с Олей первое Рождество в Англии прошло под знаком этого звонка. Мы потом сами звонили, и сын говорил с Олей по-английски, а я говорила с его новой женой Людой. Это было трудно, потому что мне всегда нравилась его первая жена, красивая полька Елена. Так было жаль, что они разошлись и она забрала мальчика... Потом я умоляла, чтобы мне прислали фотографию внука,— он был на год старше Ольги. Потом спрашивала о Кате, но не получила никаких подробностей, кроме того что «она геофизик, живет на Камчатке, замужем, и у нее дочка Анюта двух лет». На просьбы выслать мне ее последнюю фотографию было отвечено, что фотографий не имеется. Странно. Как это так? Не в близких отношениях, что ли, брат с сестрой?

Жданова, Екатерина Юрьевна (род. 1950) — внучка Сталина (дочь Светланы от второго брака с чл.-корр. АН СССР Юрием Ждановым) (супруг — Всеволод Козев (ум. 1983)), стала геофизиком, и после окончания вуза уехала как можно дальше от столицы – на Камчатку, в поселок Ключи, расположенный у подножия вулкана Ключевская сопка. Почти сорок лет она прожила в этом поселке, никуда не уезжая, вышла замуж за одного из сотрудников вулканологической станции, на которой работала и сама, родила дочь Анну.
Странный голос у этой Люды. Первое, о чем она спросила меня, было: «Ну, так когда же повидаемся?» Я ответила: «Приезжайте когда хотите, покажу вам Англию». Но это не вызвало никакого энтузиазма. «Да нет, — нетерпеливо перебила она. — Я говорю, когда же здесь увидимся?»
Это меня удивило, и я ответила, что таких планов у меня нет.
Звонки туда и обратно продолжались весь 1983 год, а затем и 1984-й. Мне было неожиданно трудно сочетать мою обычную жизнь за рубежом, ставшую для меня уже давно нормой, в особенности после рождения Оли, с этими вестями «оттуда». Я сделала невероятное усилие забыть, что там что-то и кто-то существует, почти перестала говорить по-русски, и мои заботы были все здесь. Теперь я вдруг узнавала новости и подробности о моих двух внуках, немного о Кате, а главное — не переставал звучать в ушах голос сына какой-то совсем другой... А когда прибыла и его фотография, я поняла, что голос должен был быть иным.
Передо мной на фото был не тоненький элегантный мальчик с короткой стрижкой и юмором в глазах, нет, на меня смотрело стареющее лицо с мешками под глазами лысоватого, но, главное, совершенно подавленного человека. Я так испугалась этой фотографии, напомнившей мне моего брата — алкоголика в последние годы его жизни,— что немедленно позвонила в Москву и потребовала объяснений.
«Ты пьешь —сказала я без предисловий. — Я узнаю эти опухшие глаза. Мы их видели предостаточно». Сын смеялся, но ничего не объяснял. Голос его был теперь грубым, он часто сквернословил в письмах и по телефону, как это любил делать и мой брат. Что это — показная «близость к народу», как полагают сегодня многие советские интеллигенты? Он говорил, что его Люда «из простых и хорошо готовит». Так, может быть, все это, чтобы быть с ней в унисон? Он не был таким с Еленой — умной, красивой переводчицей с французского и польского языков. Вдруг стало страшно за него. Внезапное сходство с моим братом, которое раньше не обнаруживалось, было тревожным знаком.

Василий Сталин... – «Пусть у меня сейчас нет партбилета, но не билет, а убеждения, преданность делу Ленина делают коммуниста коммунистом. Отец никогда не ставил знак равенства между коммунистом и членом партии. Уж он-то знал, сколько негодяев и карьеристов состояло в партии. И мне, как коммунисту, больно смотреть на то, что происходит сейчас в Советском Союзе. Но, будучи коммунистом, я знаю, что правда обязательно восторжествует...» 1960 год.
Я предложила, чтобы мы все встретились летом 1984 года в Финляндии, в каком-нибудь курортном месте. Советским разрешали довольно легко ездить в соседнюю Финляндию. Мне так хотелось видеть его, а не только слышать. Но он сказал, что это невозможно. Тогда я предложила, чтобы он просил правительство о посещении меня в Англии: всем было известно, что мы не виделись уже 16 лет. Разрешили звонить, может, разрешат и поехать? На недельку? Я все оплачу. Нет, он сказал, что это также невозможно. Значит, они полагают там оба, что я могу приехать. Но такая мысль была для меня все еще совершенно дикой.
Я ждала ответа от издательства «Даблдэй» о возможности публикации «Далекой музыки» в Америке. Заканчивала перевод на русский «Дневника Кришнамурти». Оля с восторгом наслаждалась своей комнатой в нашей квартирке, где все было просто, чисто, светло и так уютно и комфортабельно по сравнению с мансардой на Чосер Роуд. Окна выходили в Ботанический сад Кембриджа, прекрасные коллекции цветов и деревьев всегда были перед нашими глазами. У нас были милые соседи. Казалось, все постепенно входило в русло, и можно было бы радоваться жизни и тому, как хорошо мы устроились в этой новой для нас стране. В августе мы отправились снова на острова Силли, затерянные среди Атлантики, чтобы купаться в чистом океане, гулять по диким тропинкам на необитаемых островах этого крошечного архипелага, сидеть в прекрасном саду аббатства на острове Треско, забыв обо всем на Земле.
Однако по возвращении в Кембридж я обнаружила, что сын не провел своего отпуска на Черном море, как он обычно делал, а пробыл все это время в больнице. На мои вопросы он отвечал уклончиво, что только еще больше меня взволновало. Что-то было очень серьезное с его здоровьем— фотография только подтверждала это. Я любила старые фото Кати и Оси 1967 года, сделанные фотокорреспондентами в Москве, и они всегда стояли в моей комнате. Теперь они, казалось, говорили, укоряли, кричали на меня. Подсознательно готовясь принять мысль о возможности поездки в СССР, я написала Олиной тетке в Калифорнию, спрашивая ее, возьмет ли она на себя полную ответственность за племянницу, «если со мной случится что-либо неожиданное». Моей первой мыслью было не брать Олю с собой.

Светлана Аллилуева покидает свой тогдашний дом в Ноттинг-Хилл-Гейт, западный Лондон, 1984 год.
Но ответ мне ничем не помог. В отличие от своего порывистого искреннего брата, его сестра всегда подолгу обдумывала каждый шаг и слово, нередко советуясь с адвокатом. Теперь она просила, чтобы я предоставила ей письмо от врача, характеризующее мое состояние здоровья: была ли действительно какая-то серьезная опасность?.. Я вдруг совершенно разъярилась на весь американский образ жизни и мышления — такой деловой, такой бессердечный, как казалось мне в этот момент. Не могла же я сказать ей, что вдруг смогу поехать в СССР!
Смогу?.. Теперь надо было подумать об этом всерьез.
В интервью, данном в 1984 году в Англии «Обсерверу», я постаралась без обиняков сказать, как непереносима стала мне разлука с детьми и — теперь уже — двумя внуками. Мне хотелось, чтобы публика поняла, как это важно для меня. Но корреспондентка нажимала больше на политику и пропаганду, на все то, что она считала важным в моей жизни... Статья была длинной, сумбурной и совершенно не отражала (как это всегда бывает) реальностей моей жизни. Хотя она приводила дословно мои слова, в общем контексте статьи невозможно было уловить этой ноты.
Позже мне часто думалось, что, если бы мы жили в США, мы обе не испытывали бы такого чувства оторванности, которое наполняло нас в Англии. Здесь мы были чужестранцы, эмигранты. Никому и в голову не приходило считать меня американкой, хотя у меня было шесть лет натурализации и в Америке я была «одной из нас» уже давно. Даже Ольгу здесь считали какой-то полурусской эмигранткой, хотя она все еще не знала ни слова по-русски и продолжала, как всегда, считать себя американкой.
В Америке вас немедленно же включают в общую жизнь, и вы становитесь частью ее, хотите вы этого или нет. В Англии вам этого никто не предлагает, ибо принадлежность к британской нации священна и ее не бросают к ногам каждого приезжего. Прибывших на Острова после Второй мировой войны хватает с избытком, и у них имеется законное право считать, что они—дома. Оля попала только в интернациональную школу именно потому, что по законам бюрократии мы принадлежали к этому «второму сорту». Учебные заведения высшего класса—для урожденных британцев, а не для нас. Это ощущение было не всегда приятяым, но мы сжились с ним в силу привычного интернационализма и отсутствия ложной гордости.
Однако чувство дома было здесь нами утеряно. Возможно, что чувство, которым мы долго наслаждались в Америке — в Принстоне на Вильсон Роуд, в Калифорнии, в Висконсине,—удержало бы меня от мечтаний о «доме и семье» там, далеко, где я их оставила, в СССР. Теперь же наш американский дом не существовал более; и как ни приятна была традиционность старой, прекрасной страны, как ни восхищала красота средневекового Кембриджа и вековая история Лондона, мы все-таки чувствовали себя здесь пришельцами. Даже в малопереносимой Аризоне мы были — в свое время — дома. Сейчас же чувство отчуждения возрастало с каждой минутой и определенно помогало тянуться к тем, кто остался так далеко: к дочери, сыну, но сильнее всего — к двум внукам.
Помня отличные школы на английском и французском языках, открытые в Москве во времена Хрущева, я надеялась, что именно в одной из них Ольга сможет найти дружественную среду. Популярность Америки среди молодежи всегда была сильна в СССР, и отношение к девочке, безусловно, было бы дружеским, думала я. И уж, конечно, воображение рисовало теплые, даже горячие объятия, в которые заключат Олю брат, сестра и племянник (то есть мой внук Илья), почти ее ровесник. У нее сразу же появятся кузены и кузины — мои племянницы и племянник. Она встретит четырех «витязей прекрасных» — моих двоюродных братьев Аллилуевых, приходящихся ей дядьками. И все это венчает, полагала я, ее тетя Кира Аллилуева, моя кузина, актриса на пенсии — веселая, беззаботная душа, любящая молодежь. В своих мечтаниях я не видела ничего, кроме любви, которая, несомненно, окружит тринадцатилетнюю девочку, всегда так искавшую любви родственников, но не находившую ее среди своих американских братьев и кузенов. Но как подать ей эту мысль?.. Она не раз уже выражала интерес к кратковременной встрече с братом и сестрой «из России», даже говорила о том, чтобы поехать туда «ненадолго». Но как она встретит идею о «насовсем»?...
Ни на одну минуту не возникала в моих мыслях даже возможность, что встреча может оказаться для нас обеих недружелюбной. Тут работал со всей силой мой идеализм, и ничего, кроме любви, он мне не обещал. Ну, а уж если будут любовь да согласие, так со всем остальным мы там как-нибудь справимся. Все остальное, то есть реальности советского строя и общества, как-то отступило в моем сознании на второй план. Я думала лишь о людях, которые были там и были так нужны и дороги.
Правда, сын уже высказывал по телефону какие-то туманные сомнения насчет того, «напишет тебе Катя или нет». Почему-то он вообще мало что о ней знал, по-видимому, видел ее крайне редко и не очень много смог мне о ней сказать. Но я все еще видела свою Катю шестнадцатилетней девочкой, любящей и близкой мне. Несомненно, что такой же она будет и по отношению к своей сестре. Никаких иных возможностей просто не могло быть. Поразительно, как ум подтасовывает факты, предлагает доказательства, когда сердце уже приняло решение.

Катя... дочь Светланы Аллилуевой...
В сентябре Ольга отправилась в свой пансион после летних каникул, которые мы провели с ней вместе на островах Силли в Атлантическом океане. Я только что приобрела наконец деревянный круглый стол, который должен был играть роль обеденного стола в нашей большой комнате. В углу ее находилась «кухня» (плита и холодильник), а остальное пространство занимала «гостиная плюс столовая, плюс кабинет» — по современной планировке этих небольших квартир. Стол был сделан в Югославии: сосновый стол, импортированный в Англию. Фотографии сына и дочери всегда стояли на самом видном месте, где бы мы ни жили. Сейчас они смотрели на меня с полок секретера, поместившегося меж двух высоких окон, смотревших на Ботанический сад Кембриджа.
Я знала, что надо было что-то решать. Я знала, что поездка в СССР будет воспринята повсюду в мире только с политической точки зрения и что меня все будут поливать помоями. Чувства матери? Да кто этому поверит?! Не в силах больше молчать, я отправилась к знакомой на Чосер Роуд на чашку чая и спросила ее за столом: «Могли бы вы жить, не видя своих внуков? Или детей? Не показалась бы вам тогда ваша жизнь бесцельной?» Она серьезно посмотрела на меня и ответила: «Нет, я бы не хотела для себя такой жизни». Для меня в этих словах был ответ.
Дома я позвонила по телефону Владимиру Ашкенази, который был до тех пор всегда хорошим другом. Мы часто встречались во время его гастролей в Америке и в Англии. Он всегда находил для меня время, хотя был безмерно знаменит, занят и быстро уставал. Сейчас, слушая по телефону мой довольно бессвязный монолог, он едко заметил: «Ну, знаете, если вам здесь не нравится и в Штатах не нравится, так не поехать ли вам обратно в Советский Союз?»
Меня уязвил его тон: еще смеется! Хорошо ему, вся семья и дети с ним, живет королем в Швейцарии, повсюду резиденции... И я ответила в его же тоне: «А что ж, возможно, и воспользуюсь вашим советом». И повесила трубку.
Чем больше я понимала рассудком, каким шоком для всех окажется наша поездка в СССР, тем больше логика сердца настаивала на ней. Я даже заглянула в астрологический прогноз на ближайшие дни. Он советовал «не предпринимать никаких серьезных решений, так как ясное понимание сейчас затуманено».
«Глупости!»—сказала я сама себе. И села писать письмо советскому послу с просьбой разрешить мне возвращение.