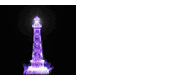Бегство из золотой клетки - 18
- Опубликовано: 02.07.2023, 07:50
- Просмотров: 30584
Содержание материала
Неизбежные сравнения
После отступления на тридцать лет назад, сделанного в предыдущей главе в связи с рассказом о последних днях жизни моего отца, вернемся обратно в Грузию.
Поскольку я прожила всю жизнь в Москве и не говорила по-грузински, за исключением отдельных слов и фраз, мне пришлось заново открывать для себя Грузию, где жили все мои предки. Моя дочь, родившаяся в Америке, проделывала тот же процесс с не меньшим энтузиазмом. Для нее так странно было сопоставлять эту маленькую южную республику с современной Америкой, ее родиной; для меня — еще страннее было вдруг перекочевать из космополитической бурлящей современной Москвы в эту крошечную республику с ее древними камнями, замками и обычаями. Глубоко укоренившийся здесь национализм, часто дикий и нетерпимый ко всему иному, вдруг заставил меня неожиданно понять и оценить — в данных обстоятельствах — все преимущества моего московского космополитического воспитания.
Многомиллионная Москва, открытая с начала XX века всем европейским влияниям и воздействиям, предоставила моему брату и мне интернациональное воспитание в духе той эпохи — конца 20-х—начала 30-х годов. Никто в нашей семье тогда не считал, что мы должны были знать грузинский язык. Мы даже не знали, кто такие были «грузины». Мой брат говорил в детстве: «Это те, которые бегают с ножами и вспарывают всем животы». Нас обучали немецкому языку с детства, это был тогда язык новой техники, а значит, и культуры. Французский в те дни отошел в прошлое вместе с дворянским обществом, культивировавшим его. Наша мама следила за нашим образованием и воспитанием с помощью нанятых ею педагогов, и мы ни в коем случае не должны были превратиться в узких националистов.
Мама любила во всем совершенство и серьезную работу, так что мы учились и с гувернантками дома, и в прекрасных школах. Затем мой брат начал военную карьеру, а я изучала историю в Московском университете, а после окончания основного курса и литературу. Мое образование и воспитание были настолько космополитическими, что в Америке меня всегда коробило, когда меня настойчиво приглашали в русскую чайную в Нью-Йорке. И за двадцать лет я умудрилась увернуться от посещения таковой. В Америку я приехала уже законченным космополитом, в особенности после моего индийского опыта. «Пирожки» в русской чайной в Нью-Йорке, куда меня так усиленно зазывали, были для меня тогда показателем какой-то неимоверной затхлости и узости мышления. Но мои новые американские друзья никак не могли понять, почему я с негодованием отказывалась посетить эту русскую чайную, предмет их искреннего восторга.
Я была в те дни так счастлива вырваться в широкий, открытый мир! Он был прекрасен, и мне хотелось с энтузиазмом узнавать все больше и больше о всех неизвестных мне до той поры нациях, в том числе об индейцах Америки, которые внесли свою лепту в этот уникальный сплав — американскую культуру. А меня зовут сидеть за самоваром!
(Светлана особо ни с кем там не дружила. Кстати, еще были живы эмигранты первой волны. Тот же Александр Керенский. Светлану, конечно, не принимали и не воспринимали. Она оказалась между двух огней. Вроде бы и дочь Сталина, и советскую власть предала. В итоге попала в полурелигиозную секту. Начались хождения по разным религиям: то она православная, то интересуется буддизмом, то принимает католичество. В общем, явный сумбур — как с мужчинами, так и с религией...)
За последовавшие годы я вполне сжилась с американским образом жизни, и в этом я в значительной степени обязана моей дочери-американке, которая внесла свою огромную лепту в этот процесс, нужный еще более для нее самой, нежели для меня. За два года, проведенных в Англии, мы познакомились с еще одним прекрасным интернациональным образом жизни — Британским содружеством наций, где единство и демократизм так очевидно демонстрируются всеми, от королевы до школьников в интернациональных пансионах. Это было незаменимым опытом для нас с Ольгой, которая еще больше узнала о мире и равенстве наций в своей квакерской школе.
И вот теперь, после всего этого многообразного опыта, мы вдруг очутились в совершенно ином мире маленькой древней гордой нации. Мы были вполне готовы заключить и ее в свои горячие объятия, так же точно, как Ольга совсем недавно обняла в своей школе детей из Кении, Уганды, Индии, Пакистана и Индонезии... И однажды в компании грузинских детей моя молодая интернационалистка выразила свое восхищение армянами, находясь под впечатлением от их прекрасного джаза, а также от местного выдающегося парикмахера.
Каково же было ее удивление, когда после выразительного молчания ей было замечено, что «об армянах даже не полагается говорить в грузинской компании». Это ее совершенно потрясло своей несправедливостью, и она упрямо продолжала говорить о том, как ей нравятся армяне, их музыка, их джаз, и все их программы на местном телевидении. Она совершенно этим шокировала своих друзей, которые затем ей вежливо заметили, что они, конечно, прощают ей как иностранке ее неведение, но что она просто не может и не должна ставить «этих армян» на равную ногу с ними, грузинами. Ольга вернулась домой из этой молодежной компании совершенно обескураженная подобной несправедливостью, источник которой она не в состоянии была понять, и я твердо сказала ей, что она права. К несчастью, она просто попала не в лучшую из компаний, так как в кругах высшей интеллигенции Тбилиси грузины и армяне веками жили в дружбе и в прекрасном артистическом сотрудничестве. А город Тбилиси всегда был образцом космополитизма, во всяком случае — до революции.

Крис Эванс (Ольга Питерс) с матерью, Светланой Аллилуевой
Но мы то прибыли сюда совсем из другого мира, который даже я после стольких лет считала своим и где интернационализм и терпимость давно уже сделались нормой мышления и поведения. И мы уже не могли расстаться с этим космополитизмом, не могли его отбросить. Америка — этот дом для всех — не могла быть так скоро позабыта. И законы, запрещающие унижать и оскорблять представителей иных наций и религий, приходили здесь на ум куда чаще, чем мы могли это предполагать.
Безусловно, я даже не могла заикнуться в моей старинной, экзотической, ортодоксальной грузинской церкви о факте - своего перехода к католикам... Воображаю, какой скандал это вызвало бы. Но весь оперный ритуал, прекрасное пение и изнурительные литургии с пятичасовым стоянием на ногах не смогли бы заменить мне экуменической службы в англиканском соборе св. Павла в Лондоне, когда около двух тысяч верующих со всех концов Земли собираются здесь традиционно в летние воскресенья, чтобы отпраздновать сообща литургию. Никто не спрашивает их, к какой конфессии они принадлежат, каждый получает причастие возле алтаря на равных основаниях. Я помню, как потрясена я была этим равенством, с которым нас всех тут принимали. Звучал прекрасный камерный ансамбль, потом мы все двинулись к причастию, и я знала, что мой сосед был агностиком, но он так хотел получить причастие. Возможно, что этот момент равенства оставил неизгладимое впечатление в его памяти — в пользу церкви, потому что его не оттолкнули. Даже спокойная служба в лондонской семинарии или многонациональное собрание во время францисканской народной мессы в Калифорнии (в особенности их Пасхальное ликование) оставляли это прекрасное чувство открытых дверей и гостеприимства. Нет, здесь, в Грузии, в пятнадцативековой Православной церкви, я не могла признаться в моей «ереси». Никакие объяснения не помогли бы здесь. Меня бы выкинули вон.
(Уезжая из Тбилиси, она заявила, что «ей надоело жить среди дикарей»)
Но в большом мире, где мы уже прожили немало лет, необходимо обнять их всех, братьев-христиан и даже нехристиан. Одинокое, догматическое, упрямое противостояние отделит вас от всех остальных. И при всей красоте неземного хора, обволакивающего вас звуками, сопровождаемыми курением ладана, когда вы так индивидуально уединены перед Богом, вы знаете, что вам нужно взять за руки и других, чтобы выразить мировую соборность, мировое единство людей перед Богом. Здесь мы чувствовали свою—и их—отъединенность; специфичность, неповторимость— но и одиночество... Мы чувствовали — в особенности в церкви, но не только — уникальность этой страны и ее культуры, но также и тот факт, что мы-то уже привыкли к культуре Запада, объединяющей даже необъединимое. И чем сильнее мы привязывались к этой родной нам земле и ее чудесным людям, тем больше мы понимали, что день расставания неминуемо придет. Мы не знали еще — когда, но мы уже чувствовали, что начинаем задыхаться в этих горячих объятиях.
Конечно, здесь, в Грузии, мы во всем были на стороне грузин и против всего, что «спускали» им «сверху». Не только в смысле подавления национальности, но также и в смысле партийных и экономических директив этой маленькой стране. Урожай чая, цитрусовых, фруктов, вина немедленно отправлялся весь «на север», так же, как и продукция местного автомобильного завода, и добываемая марганцевая руда, и другие богатства. И хотя Грузия всячески пыталась противостоять этому диктату, особенно в сельском хозяйстве, она знала, что битва была неравной.
Тогдашний ее партийный вождь Эдуард Шеварднадзе остроумно решил, что вместо неравной борьбы за местные интересы лучше во всем поддерживать «север». Эта личная политика завоевала ему признательность Москвы, куда он в конце концов и был вызван, чтобы получить пост министра иностранных дел в новом правительстве Горбачева. Но об этом шаге— позже. В Грузии же Шеварднадзе сделал все возможное и невозможное, восхваляя «союз» России и Грузии, вплоть до установления монумента в честь ненавистного здесь Георгиевского трактата 1784 года, по которому Грузинское королевство подпало под унизительную власть Петербурга, потеряв свою независимость, свою династию и статус свободного христианского государства. И этот национальный позор теперь был отмечен монументом подозрительного художественного качества и бесконечными официальными партийными празднованиями. Местное население, церковь и интеллигенция негодовали, но зато Шеварднадзе пошел после этого в гору...
Я уже говорила о своей первой встрече с Эдуардом Шеварднадзе. Он дал мне понять, что в моем случае все зависит от решений Москвы, которым он будет неуклонно следовать. Я поняла тогда, что передо мной был очень неглупый человек, большой дипломат с далеко и высоко идущими амбициями. Сегодня в этом ни у кого уже не может быть сомнений. Но тогда в небольшой окраинной республике еще не видны были широко открывавшиеся ему горизонты, которые очень скоро сделались реальностью... И он явно не стремился здесь к дешевой популярности среди своих соотечественников: быть популярным в Москве было куда более важно для него. Что касалось нас с Ольгой, то было ясно, что у нас всегда могут возникнуть непредвиденные трудности в результате нажима из Москвы, а с московскими идеями о нашей «ускоренной советизации» мы ведь уже познакомились там, на севере.

Джордж Буш - старший, Эдуард Шеварнадзе и Джеймс Бейкер...
Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе (25 января 1928, Мамати, Грузинская ССР, СССР — 7 июля 2014, Тбилиси, Грузия)
В 1990 г. министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе при активном содействии Михаила Горбачёва отдал американцам около 80 тысяч квадратных километров (как минимум 34 тысячи квадратных морских миль) советской территории. В результате деяний перестроечных лидеров Россия утратила зону богатейшей добычи краба и тихоокеанской рыбы. Согласно сенатору от Камчатского края Борису Невзорову, ущерб может быть оценен в приблизительно 500 тысяч тонн улова ежегодно.
Также Россия добровольно - и по непонятной причине! - лишила себя права на добычу природных ископаемых, запасы которых согласно геологоразведке в этой зоне (между островами Прибылова, Св. Матвея, Медным и Атту) составляют не меньше 200 миллионов кубометров природного газа и не менее 200 миллионов тонн нефти.
Как и его патрона Михаила Горбачева, Шеварднадзе больше уважают и ценят в мире, чем на родине.
Одни утверждают, что он последовательно проваливал все, за что брался, другие убеждены, что его исторических заслуг человечество не забудет.
И после года, проведенного в этом благоуханном родном краю, влюбляясь в наших друзей и их образ жизни, зачарованные ароматами прекрасной древней земли, мы уже понимали, что час расставания со всем этим столь неожиданным и новым для нас опытом неминуемо придет... Мы не знали еще, когда и как скоро это произойдет, но неминуемость расставания уже была в воздухе.