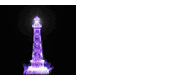Бегство из золотой клетки - 12
- Опубликовано: 02.07.2023, 07:50
- Просмотров: 30577
Содержание материала
«Быть может, за стеной Кавказа...»
...повторяла я всю ночь. А наутро было готово решение. В России бегство на Кавказ традиционно было формой эскапизма (эскапи́зм, эскепизм, эскейпизм (англ. escape — «сбежать, спастись») — избегание неприятного, скучного в жизни, особенно путём чтения, размышлений и т. п.), как сказали бы теперь. Но бежали туда, за хребет, не только прогрессивно мыслящие дворяне и офицеры девятнадцатого, классического века. Бежали туда и бедные русские крестьяне, как наш дедушка Аллилуев из-под Воронежа, и даже из Европы, как, например, предки моей бабушки из Вюртемберга. Почти со смехом подумав обо всех этих «предшественниках», я вдруг зрительно увидела, что нам с Ольгой сейчас самое место там, раз уж мы не в состоянии выдержать всего нажима Москвы.
(По словам дочери Сталина, в тот период она попала под герметичный «колпак» советской власти, с чем не захотела мириться. Поэтому Светлана Иосифовна переехала на отцовскую родину в Грузию, где ей также предоставили поистине королевские условия для жизни.)
Я схватила бумагу и настрочила письмо в правительство — а куда же еще? — умоляя, в самом деле умоляя позволить нам уехать «в провинцию», так как «в Москве мы слишком на виду и будем вечно подвергаться атакам западной прессы». Этот пункт должен был вызвать к нам сочувствие и сыграть в нашу пользу. Затем я ссылалась на «исторические и семейные связи с Кавказом», перечисляя всех Аллилуевых — в Тбилиси даже улица Аллилуева имеется, в честь дедушкиных подвигов во время стачек начала века. Я обещала «полное понимание и сотрудничество с местными властями», что должно было означать, что я не буду эксплуатировать чувства грузин к моему отцу и не буду играть на этом. Еще бы! Зачем мне это нужно?! Я обещала... все, что угодно, только чтобы нас туда пустили, и чем скорее, тем лучше. Я понимала прекрасно, что вниманием, уделяемым западной прессой, правительство уже раздражено,—ну вот, так я и иду вам навстречу, хочу уехать из столицы.
Написав все это, я заказала кофе и завтрак. Оля вскоре уселась за урок русского языка с учительницей, а я стала собираться с духом для новой битвы.
И точно: в полдень появились представители Совмина и наши опекуны из МИДа, торжественно несущие в руках папки с бумагами. Мы все уселись за стол.
Теперь мы уже жили в небольшом обычном номере, так как я сочла нужным отказаться от роскошных бесплатных апартаментов. Представители Совмина достали документы, касающиеся меня и моей дочери. Момент был торжественный. Я слушала все молча.
Мне, очевидно, все прощалось — во всяком случае, прошедшие восемнадцать лет отсутствия не упоминались, будто их вообще не было. Меня приняли, как библейского блудного сына. Нам предоставляли ту громадную квартиру в доме членов Политбюро, рядом со школой, машину с шофером; восстановлена была моя пенсия, данная мне по смерти отца. Декрет также выражал надежду, что вскоре я окажусь вновь «в коллективе» и что Ольга Вильямовда Питерс вскоре почувствует себя совсем дома. Образование в СССР, конечно, бесплатное — вы платите своей жизнью, но не деньгами.
Я сидела и ждала конца. Потом поблагодарила за все (благодарность должна быть передана правительству) и попросила разрешения прочесть им теперь письмо, которое я только что написала. Я начала читать очень вежливое, дипломатичное письмо, наполовину составленное из благодарностей, и, читая, заметила, как вытягиваются их лица, как они столбенеют, а когда я кончила читать — молчат... «Я думаю, что это решение удовлетворит всех и будет всем на пользу», — повторяю я. Они молчат, не веря своим ушам, потом я слышу: «Хорошо, мы доведем ваше письмо до сведения правительства».
Я не ем весь остаток дня, молюсь и молюсь, «держу кулаки», даже не разговариваю с Ольгой и молю Господа, чтобы помог...
Он помогает.
Через несколько дней я получаю приглашение зайти в Представительство Грузии — крошечную миссию, одну из тех, которыми располагает каждая республика в Москве. Сразу же бросается в глаза хороший вкус, свободные, веселые манеры служащих, обилие свежих фруктов на столе представителя, элегантного человека средних лет. Он заметно нервничает и разглядывает меня с любопытством. Он сообщает мне, что нам с дочерью разрешено ехать жить в Грузию, и затем широко улыбается. После того как формальная часть закончилась, он предлагает мне фрукты, вино (я отказываюсь) и говорит уже совсем нормальным тоном: «Это очень приятный сюрприз для нас». «А также и для нас!» — отвечаю я ему в тон. И это — святая правда.
Мы летим в Тбилиси 1 декабря 1984 года. С нами летит приятный молодой человек в очках и дубленке — представитель грузинской миссии в Москве. Очень холодная погода, а я уверяла Ольгу, что Грузия — как Калифорния, то есть совсем без зимы! В наших английских демисезонках будет холодно. Молодой человек немного говорит по-английски, и Ольга оживает. Он подсовывает ей мандарины. Она говорит мне, что все, что угодно, будет лучше, чем Москва. Я согласна с нею. Этот месяц, что мы провели в Москве, был сплошным кошмаром. «Жили ли вы когда-либо в Грузии?» — спрашивает молодой человек. «Нет! — признаюсь я. — Но вся моя семья жила».
Мы смотрим вниз, под крыло, на прекрасный, занесенный снегами, сверкающий алмазами Большой Кавказский хребет. Я никогда не видела его таким. Ольга тоже захвачена величественным зрелищем. Граница Европы и Азии. Мы — в Азии теперь. Снега сверкают на солнце, а вверху небо интенсивнейшей голубизны. Все пассажиры смотрят вниз, хотя они-то видели это множество раз. Ольга ест мандарин, она заметно повеселела. Господи, Ты спас нас опять. Господи, Господи, как это оказалось возможным? Я не могу поверить, что мы вырвались из ситуации, грозившей проглотить нас. В национальных республиках совершенно иная жизнь —теоретически я это хорошо знаю. Независимая, насколько это возможно, от Москвы. Своя собственная, колоритная, теплая. Все будет хорошо. Господи, как нам это удалось?!
В аэропорту Тбилиси — небольшом и еще незаснеженном, с голыми деревьями вокруг — нас встречают несколько женщин в хороших меховых пальто. Разница во внешности сразу же бросается в глаза — грузины любят хорошо одеваться, это для них исключительно важно. Молоденькая переводчица, блондинка, берет за руки Ольгу, и у них возникает мгновенное взаимное понимание, которое впоследствии превратится в настоящую дружбу. Я могу успокоиться на некоторое время, так как уже вижу, что Ольга довольна своей новой знакомой. Все встречающие дамы сверкают улыбками. Я знаю только одну из них еще по школе; год мы были одноклассницами. Здесь все проще, веселее, натуральнее. И хотя мне понятно, что эти дамы здесь тоже представляют собой партию и правительство, они все же куда лучше и приятнее это делают. И теплее. Мы грузимся в машины и едем— куда повезут...
И вот для нас началась здесь совершенно иная жизнь по сравнению с Москвой.
(А до этого в 1967 г. С. Аллилуева писала: «Когда я вижу теперь узкий, мелкий, какой-то мещанский национализм грузин, эту бестактную манеру говорить по-грузински при тех, кто не понимает этого языка, стремление все свое восхвалять, а все прочее ругать, — я думаю: Боже! Как были далеки люди от этого в то (начало 1930-х годов) время! Как мало придавали значения этому проклятому „национальному вопросу"! И какая дружба, какое доверие связывало людей между собой — разве что люди заняты были постройкой дач, приобретением машин, мебели»)
В первые же дни, когда нас поместили в загородной резиденции для гостей, появились Олины сверстницы — племянницы одной из встречавших нас дам. Они щебетали по-английски, сели вместе за рояль, пели песни и очень быстро подружились.
Министр школ Грузии не требовал, чтобы Оля тут же уселась за парту. Вместо этого он взял ее в школу верховой езды, которую сам создал, и посадил там на лучшую лошадь. А так как Оля была хорошей наездницей, то она быстро завоевала сердца окружающих. Ей дали постоянного тренера, и она стала ходить в манеж регулярно. К ней вернулась уверенность в себе.
Дома к урокам русского языка (которые здесь вела очень сильный педагог-грузинка) прибавились и уроки грузинского с молодой миловидной женщиной. Хотя меня уверяли, что иностранке невозможно сразу приняться за два новых языка, я хотела попробовать, так как свободного времени было слишком много. Результаты у нас были блестящими: через полгода Оля уже могла слегка объясняться и на русском и на грузинском языках. Через год она могла вести разговор! Надо сказать, что личности учителей и их отношение к Оле имели большое значение: Оля чувствовала горячую симпатию и отвечала тем же. На этом основывался успех.
Дома она занималась также математикой с педагогом, знавшим английский. Ходила в кружок акварели, где преподавала полугрузинка, полукитаянка, хорошая художница. Ее дед приехал сюда из Китая в прошлом веке, чтобы начать чайное дело возле Батуми. Чай все еще производится там, но его качество, по всеобщему признанию, сильно понизилось.
Наконец, у Оли появился большой друг, Лейла,—музыкальный директор местного театра, занимавшаяся с нею музыкой и пением. Очень скоро Оля выучила с помощью Лейлы популярные грузинские песни и научилась аккомпанировать себе на пианино. Теперь она была незаменима в компании — здесь все пели и играли на гитаре или на пианино. Жизнь девочки преобразилась. Она расцвела, похорошела, стала одеваться так, как одеваются здесь (юбка и свитер, но не брюки), и ее вечно приглашали на вечеринки, свадьбы, обеды, где всегда были незаменимы песни и веселье. Ей нравилось неожиданно отвечать по-грузински, когда молодежь подходила к ней с английскими фразами: это всегда вызывало удивление, восторг и поцелуи.
Ее сверстники здесь были в нескрываемом восхищении от Америки, и Оля была для них источником искренного любопытства и симпатии: девочка, родившаяся в Калифорнии! Американка! Она выслушивала их дифирамбы, наивные восторги и расспросы и часто открывала им глаза на действительную Америку, которую они представляли себе как один нескончаемый Нью-Йорк с небоскребами и автомобилями.
Декабрь мы провели в загородной резиденции, но к Новому году по моей просьбе нам дали квартиру в городе, и жизнь постепенно стала более нормальной. Конечно, квартира — как и в Москве — была в доме, где живут партийные работники, которым надлежит следить за каждым нашим шагом, но здесь все проще, домашнее. Наша квартира с двумя спальнями и столовой выглядела просто и чисто: мы купили мебель в местных магазинах, украсили комнаты изделиями грузинского народного искусства, домоткаными коврами. Оля была рада, что у нее наконец имеется своя комната, где она может налепить на стены все, что пожелает,— как это делают подростки на Западе.
Нам усиленно предлагают прислугу, потом — гувернантку для Оли, но я знаю, что это еще один вид надзора, и отказываюсь. Хватит с нас шофера. Он приятный, дружелюбный, веселый парень, но безумно любопытный. Однако без него мы потеряемся в этом незнакомом городе: отказаться от машины в этих условиях невозможно. А купить свою машину и водить ее здесь мне не разрешают «из предосторожности». Мы постепенно привыкаем пользоваться троллейбусами и автобусами. Это позволяет нам навещать, кого мы хотим, без надзора. Оля уже знает, как добираться троллейбусом к своим учительницам и друзьям. Она не перестает удивляться условиям их жизни: грязным лестницам, немытым подъездам, маленьким комнатам, отсутствию красоты, стиля в интерьерах — потому что нет места, потому что все скучены. Она начинает понимать разницу в социальном положении различных семейств, которые мы посещаем. Здесь это не деньги, не богатство, не собственность —нечто иное; и по всем признакам мы помещены на этой социальной лестнице где-то наверху. Ей еще многое предстоит открыть в этом, столь новом для нее обществе. Мне все это не ново.
Но меня поражают перемены в молодых. Все девочки и мальчики, которых так притягивает к себе Ольга, молодые учительницы, ее тренер верховой езды — все они, даже наш шофер, донимают ее расспросами об Америке. Им так хочется знать об окружающем мире, закрытом для них.
Только год тому назад маленькую республику потрясла трагедия, еще не закончившаяся. Несколько молодых студентов решили угнать самолет за границу. Была перестрелка, были жертвы. Попытка не удалась, их вернули, арестовали, приговорили кого к пожизненному заключению, кого к смерти. Они не отрицали в суде, что хотели бежать за границу. Мы ощущали громадную моральную поддержку их среди всей молодежи. И не только молодежи: старшее поколение собирало подписи под петицией правительству об отмене смертной казни приговоренным. А Оля была оттуда— и перед нею не стеснялись говорить: «Я тоже хочу уехать, бежать!» Она чувствовала, что доверие и любовь к ней шли от двух источников: одни видели в ней «внучку», другие — представителя свободного мира. Эти конфликты открыли ей глаза, она необыкновенно повзрослела всего лишь за полтора года нашего «визита». Она училась «на практике». Я же, проваливаясь в темные, глубокие воды прошлого, почувствовала, что нам обеим не справиться с этим. Даже здесь, в Грузии, где было больше искренности, больше храбрости, больше страсти в сердцах, я понимала, что скорее она найдет себе место среди молодых. Но не я.
И поэтому, радуясь ее счастливому веселью, я понимала, что это все — временное, Мы были как бы подвешены в воздухе и озирали оттуда всю жизнь внизу. Но мы не жили этой жизнью. Странное чувство нереальности не покидало меня ни в театре, где мы смотрели прекрасного Брехта, ни на концерте, где современный оркестр и певцы так прелестно сплетали традиционные мелодии с новыми веяниями Запада, ни дома, где у нас уже образовался тихий уголок уюта за вечерним телевизором — вечерний мир, который дочь и я всегда находили и оберегали, куда бы ни бросала нас судьба. Все было нереально, даже если и приятно...

Светлана Аллилуева, февраль 1984