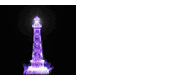К югу от линии - 17
- Опубликовано: 01.04.2011, 07:28
- Просмотров: 225389
Содержание материала
БЕРЕГ (ОДЕССА-ПАРОХОДСТВО)
— Нашли? — спросил Боровик.
— Вроде так, Владлен Афанасьевич. «Роберт Эйхе»,— помощник извлек из папки календарный листок с пометками. — Дедвейт тринадцать тысяч шестьсот, скорость шестнадцать с половиной.
— Знаю. Сухогруз типа «Бежица».И далеко?
— Восемьсот семьдесят миль.
— Порядочно. Почти трое суток. Но на безрыбье и рак рыба. Пусть берет на буксир. Срочно радируйте.
— А как же Дугин? Задержать радиограмму?
— Постойте, — Боровик на секунду задумался. — Дугину пока приказа не отменяйте. Пусть сопровождает «Оймякон» до подхода «Эйхе». Мало ли чего... В конце концов, это только сутки. Как-нибудь перетерпим, а то рисковать, себе дороже... Кстати, кто капитан?
— Нестеренко Нил Павлович. С Кубы идет.
— Так чего ж он, сукин сын, Нил этот самый отмалчивается. Богданова не услышал, так там Дугин, парень себе на уме, вовсю шурует? — Боровик рассеянно взял и тут же выпустил листок с пометками, который медленно спланировал на ковер. — Вообще-то циклон свирепствует, могли и не проходить волны... Пусть составят полную метеосводку по району.
КАЮТА НА ЮТЕ
Тоня занимала каюту матроса второго класса. Присущая Морфлоту спартанская рациональность нашла в этой сверкающей больничной белизной келье со скошенным правым углом свое крайнее выражение. В отличие от офицерских апартаментов санузла здесь не полагалось, но был умывальник с нажимным краном, отгороженный полиэтиленовой занавеской и высоким пеналом, придвинутым к рабочему столику. Второй, разделенный на такие же полки пенал находился в противоположном углу, возле кушетки, поставленной под иллюминатором. Вся мебель, в том числе и койка за шторками, была отлита из белой пластмассы. В подкоечном ящике лежал спасательный жилет с красной лампочкой, которая загоралась, когда в элемент проникала морская вода, а вентилятор и полка для книг были принайтовлены прямо к переборке. Вот и вся обстановка, разве что грибок кондиционера торчал в подволоке и динамик трансляции светил дырками на жестяной панели.
Педантичный старпом, обеспечивший весь экипаж именными наклейками с выпуклыми латинскими литерами, и на Тонину дверь налепил соответствующую полоску, на которой белым по синему значилось: «Аntonina Polosowa».
Только ни к чему была Загорашу эта наклейка. Он и так бы не заблудился. Незаметно протиснулся в тихий коридорчик на юте и, воровато оглянувшись, проскользнул в эту самую, чуть приоткрытую дверь. Едва переступив через камингс, поспешил повернуть ключ с номерной биркой, предусмотрительно торчавший в замке. Она метнулась навстречу, с жадным нетерпеливым вздохом прильнула к нему и, прижавшись горячей щекой, замерла. Он неловко обнял ее, и она, наливаясь упругой силой, приподнялась на носки и потянулась к его губам, дыша прерывисто и часто. Целуя влажный раскрытый рот, Загораш ощущал, как трепещет под пальцами ее гибкая податливая спина и, проникаясь ответной дрожью, словно в танце, шагнул вбок, рванув на себя шторку. Он уже не услышал, как зазвенели сорванные кольца.
— О, как долго ты не шел! — опускаясь, выдохнула она с облегчением и стоном.
Потом, примостившись на тесной койке, Загораш думал только о том, как бы поскорее уйти. Было темно, хотя он не помнил, кто из них двоих и когда вырубил свет. Следуя за креном, раскачивались почти невидимые шторки. Смутная рябь металась на подволоке, и он гадал, откуда может пробиваться огонь: то ли с палубы через щелку иллюминатора, то ли из коридора через вентиляционную решетку двери.
Просто так встать и удалиться он не решался, было стыдно. Приходилось подстерегать подходящий предлог.
Обычно таковой вскоре находился, хотя бы потому, что его не приходилось особенно изыскивать. Служба требовала, чтобы Загораш пребывал возле своего телефона, потому что его могли поднять в любой час дня, а также ночи. Да и есть ли они, эти ночи у моряка, чья жизнь поделена на четырехчасовые вахты? Во всяком случае, на утро, когда можно незаметно прокрасться к себе, ему лучше не рассчитывать.
Вот и лежал он рядом с ней, притихшей и сонной, украдкой посматривая на светящийся циферблат. Поджидал подходящий момент. Так с ним было почти всегда. В ту первую ночь, когда он жарким самозабвенным напором победил ее не слишком стойкое сопротивление, желание немедленно сбежать оказалось настолько сильным, что он даже симулировал острый приступ люмбаго — профессиональной болезни моряков. С той поры, навещая украдкой Тоню, он почти всякий раз возвращался к ощущениям той, во всех отношениях странной ночи...
Приняв сорок тонн мазута и залив баки двойного дна топливом, они описали прощальную дугу на черном зеркале сеутской бухты и взяли курс на Гибралтар. С приближением к проливу посеребренная луной гладь покрылась рябью, начал задувать ветер с оста и чуткий на волну контейнеровоз ощутил первый приступ качки.
Сколько не плавай, а выход в океан всегда отзывается легким обмиранием сердца. По сути только после Гибралтара и начинается настоящий поход, потому что на Средиземное море привыкаешь смотреть почти как на пригороды Одессы, на ее прибрежные форпосты, знакомые до последнего навигационного знака. По крайней мере, цветность воды в Ионическом море такая же, как где-нибудь в Затоне или на Сухом лимане.
Вот и получается, что Сеута — это как бы еще дом, а молы на Джеболь-Муса — уже последний знак, за которым простирается неизвестность. Голос океана ни с чем не спутаешь, всем своим существом отзовешься на его беспощадный призыв.
В считанные часы, которые нужны пароходу, чтобы от маяка Альмина дойти до скалы, происходит в душе моряка глубокая, незаметная постороннему глазу, перестройка. Люди как бы настриваются на океан, подчиняют привычные ритмы своего естества его властному переменчивому праву. Обычно начинают с того, что, разбившись на небольшие тесные кружки, устраивают прощание с берегом.
Настоящее прощание, резко отличное от беззаботного веселья первых часов плавания, когда еще и чары домашнего застолья не успели развеяться и у каждого припасено, что надо, и все друг другу рады до невозможности. Ничего подобного перед Гибралтаром уже не бывает: ни одиночных возлияний, ни, тем более, коллективных пирушек. К Сеуте все уже более или менее ясно на борту. Определились симпатии, и каждому известно, кто к кому ходит в каюту, а кто не ходит. Это очень важный момент моряцкого быта, потому что нигде так не дорожат минутами полного уединения, как на пароходе, когда каждый на виду и все у всех общее. Приглашение разделить короткие часы морского досуга значит много больше, чем любой дружеский визит в семейный дом, и стакан красного вина, которое в Неаполе дешевле минералки, становится знаком особого расположения, словно это вино причастия. Загораш и Шимановский так и не заметили, как прошли Гибралтар, противостоя нагонной воде Атлантики, которой вентилирует себя море среди земель. Только на другой день, когда Шередко объявил, что Одесса-радио уже не слышит вызова и о звонках домой лучше на время забыть, поняли, что оборвалась ещо одна очень приметная нить.
Много ли хмеля в стакане сухого вина? Выпьешь и не заметишь. Нет, не вино зажгло Загораша в этот вечер, когда он принимал у себя друга-электрика. Не оно отуманило голову, когда над овеваемым берберским ветром спардеком кружились созвездия и метеоры прочерчивали в невыразимой бездне наклонные фосфорические следы. Так уж получилось, что Тоня тоже поднялась на палубу полюбоваться мерцающей пылью Молочной реки, перед которой человек, наверное, ничего не значит, ибо каждая пылинка в ней равнозначна солнцу. Страшно подумать, что вокруг каждого из светил тоже могут вращаться планеты, быть может, такие же, как Земля. И вообще: «Уходит род, и приходит род». Сам собой завязался философский диалог о вечности, а когда Шимановский незаметно слинял, случилось то, что должно было случиться, ибо Тоня с Загорашем и раньше обменивались долгим, все открывающим взглядом и были подчеркнуто дружелюбны.
Не вино, а беспокойная кровь тяжко ударила Загорашу в виски. Все на свете он забыл, летел, как в межзвездную бездну, где вспыхивали миры и лопались метеоры.