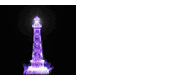К югу от линии - 11
- Опубликовано: 01.04.2011, 07:28
- Просмотров: 224897
Содержание материала
Заранее поеживаясь, он надавил ручку и толкнул тяжелую дверь с круглым, на уровне лица глазком. Переступив через высокий камингс, прислонился к фальш-борту, за которым висел складной трап. Выкрашенные зеленым сварные пупырчатые листы ощутимо вибрировали под ногами. В перерывах между гудками на барабанные перепопки давил непривычный шелест, словно за туманом шли льды. Скорее всего это лопались стеклянные шарики брызг, вихрем летевшие из носового каскада. Упруго подскакивая на мертвой воде, они долго не растворялись в пузырящихся шайках, беспрерывно всплывавших из взбудораженных омутов. Но к этому шипящему шелесту добавилось еще и явственно различимое зудение, которое источал сырой воздух. Штыри приемных антенн, изливавшие в атмосферу статическое электричество, и мачта с громоотводом были высоко на марсе. Едва ли звуки тлеющего разряда могли достигнуть прогулочной палубы. Если, конечно, электричество не истекало из каждой выпуклости, каждого сварного шва.
Легко и красиво скользил «Лермонтов» над черно-дымчатой, как обсидиан, глубиной. Шумы двигателей неразделимо сливались с многосложной акустикой океана, с его до предела натянутой басовой струной, вибрирующей на последней границе слуха.
Геня прошел на корму и уселся в затишке на кнехте, таком же зеленом и влажном, как и все вокруг. От машинного люка шло попахивающее соляркой тепло. Полоскалось отяжелевшее от сырости шерстяное полотнище флага, за которым терялся в невыразимой белизне укороченный кильватер, тяжело отливавший распластанным свинцом.
— Подсаживайся, — поманил Геню Иван Гордеевич, опускаясь на широкую лавку между брашпилем и лебедкой. — Угощайся, — достал из нагрудного кармашка пачку «Примы».
— Могу предложить «вражеские», — Геня протянул коробку импортных сигарет.
— Давай, — охотно согласился Горелкин. — О чем это мы с тобой толковали? — спросил он, щелкая зажигалкой.
— Начали с буксира, а кончили стержнем, насколько я мог понять.
— Вот именно! — первый помощник назидательно поднял палец. — В войну мы, когда надо было, на катерах вытаскивали из боя потерявшие ход эсминцы. Понял?
— Так то в войну!
— Да, в войну. Будем надеяться, что не понадобится, но в случае чего, мы не только вытащим «Оймякон» из шторма, но и благополучнейшим манером проведем его через Гибралтар. И не надо мне заливать про машину и контейнера. Понял?
— Понял.
— И знаешь, почему?
— Наверное потому, что вы так считаете.
— И это имеет значение. Но главное, Жильцов, в том, что ни у нас, ни у капитана Богданова нет альтернативы. А раз так, то что? Раз так, напрягаемся и совершаем рывок. Даже через невозможное. Так уж привыкли и стержень в нас такой. Появится он у тебя, станешь настоящим моряком, не появится... — Горелкин сделал выжидательную паузу и неожиданно тепло заключил: — Станешь. Еще на доске Почета будешь висеть в непосредственной близости от дюка Ришелье.
— Как Богданов?
— А что Богданов? Прекрасный моряк! Подумаешь, лопасть потерял, с каждым может случиться.
— Может, и так, — отчужденно согласился Геня. Из духа противоречия он готов был опровергнуть то, что отстаивал вчера. Лишь бы не соглашаться с Горелкиным. — Но лучше не ломать винт. Тогда бы нам вообще не пришлось никого брать на буксир. Вы не думайте, Иван Гордеевич, я не против героизма. Я за то, чтобы каждый хорошо, нет, просто-таки виртуозно делал свое дело. Может быть, героев тогда будет и поменьше, но жить станет лучше. Логично?
— Логично-то оно вроде логично, — с сомнением покачал головой первый помощник, — да не очень привлекательная у тебя философия. Какая-то не моряцкая. Или, может, обиделся на меня? — поднявшись, он небрежно коснулся носком клепаной плиты в основании лебедки. — Я ведь правду говорю, что пароход только с виду железный. Учти.
— Нельзя ли более конкретно?
— Подрастешь, сам разберешься, — бросил Горелкин, уходя.
А чего разбираться, если все и так ясно? Заскучал Геня, внутренне поник. Горячей тошнотной волной прихлынуло к сердцу щемящее ощущение обиды. Знакомое чувство, с которым он никогда не умел справиться.
Вспомнился первый самостоятельный рейс, в КБТЖ *(* Каботажное плавание вдоль берега) от Одессы до Керчи. Он тогда загляделся на дневальную Зину, которая, подоткнув юбку, швабрила палубу. Так и выкатил шары на заголенные много выше колен крепкие ноги, поразительно белые и, теперь можно признаться, довольно некрасивые.
«Шо вперился, салага? — высокий приблатненного вида матрос ткнул его под ребра ороговевшим пальцем. — Не советую, мальчик, нарываться на большую неприятность. Все чудачки на пароходах расписаны. Улавливаешь?» — «Улавливаю, — ответил тогда застигнутый врасплох Геня и, заливаясь краской, спросил: — А как это, расписаны?» — «Ну ты даешь! — ощерил металлическую челюсть матрос. — Неужто и вправду не знаешь?» — «Нет», — покачал головой Геня, хотя уже все понял в ту минуту, захлестнутый такой же тоскливой и жаркой волной. Ее неотвратимый прилив он ощутил и там в салоне, когда Горелкин выдал свою сентенцию. А может, и еще раньше, когда впервые сверкнула для него Тонина улыбка.
«Поживешь, сам узнаешь», — матрос несильно подтолкнул его и, покосившись на белые, в венозных разводах ляжки дневальной, нехорошо улыбнулся. Как третий механик еще там, в Ильичевске, когда увидел на борту принаряженную, обильно надушенную кандейшу Ванду, хозяйку камбуза.
Не такие уж это были тайны, чтобы в них запутаться. Геня все понимал и всему находил надлежащее объяснение, хоть и горели у него кончики ушей от подобных мыслей. Одно не понятно было: при чем здесь Горелкин. Он-то чего встрял? Или тоже свой интерес преследовал, несмотря что старый? Да нет, быть того не могло! Никогда его с Тоней не связывали и вообще ни с кем. Вот о деде, точно разговоры такие ходили, хотя Геня их избегал, не хотел верить. И снова противные мысли. Сколько ни думай, выхода из липкого, бесконечно повторяющегося круга нет. Лучше сразу из головы выбросить. Или напрямую спросить?
Перепрыгнув через натянутую цепь, он обежал корму. В распахнутом иллюминаторе камбуза увидел Тоню. Она беззвучно плакала возле посудомойки. Заметив Геню, вздрогнула и отвернулась.
— Послушай, — просунувшись внутрь, он впервые обратился к ней на «ты». — О чем говорил с тобой Горелкин?
— Больно много знать хочешь, — отчужденно отозвалась она, и лопатки настороженно обозначились под легкой тканью ее итальянского батника.
— Зачем он разговор этот дурацкий затеял, — закипая обидой, выкрикнул Геня, — про сквозной пароход?
— Почем я знаю, — она устало опустила руки. — Не надо орать.
— Я не ору, — он заговорил тише, но с тем же обидчивым напором, — и вообще никто ничего не услышит. Ты мне только скажи, почему он так себя вел? На что намекал?
— Иди-ка ты, Геня, подобру-поздорову, — Тоня локтем отерла слезы и, обернувшись, потянулась захлопнуть иллюминатор.
— Это правда, что про тебя говорят? — спросил он, бледнея, и схватился за откидной барашек.
— Я не знаю, что про меня говорят, — отчеканила она. — И знать не хочу. Я о тебе лучше думала, Геня, только ты вон какой оказался, как все, — и вдруг выкрикнула с ненавистью: — А ну отвали! — и захлопнула иллюминатор.
Прижавшись к фальшборту, неприятно холодившему спину, Геня увидел, как она рванула вниз клеенчатую шторку.
— Судовое время передвинуто на час вперед, — объявили по трансляции. — Сейчас десять часов двенадцать минут.
«Целый час выкинули из жизни за здорово живешь», — подумал Геня. О том, что когда шли на вест, стрелки назад передвигали, он и не вспомнил.