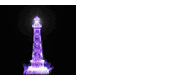Море на вкус солёное... - 10
- Опубликовано: 18.03.2011, 13:13
- Просмотров: 140803
Содержание материала
В ГОСТЯХ У ГОНЧАРУКА
Принято считать, что Одесса — это Потемкинская лестница, Приморский бульвар и Оперный театр. Конечно, со стороны окраин город не строили великие зодчие.
Покосившиеся домишки и побеленные известкой заборы — фантазия самих бедняков.
Кривые улочки впадают здесь не в море, в степь, по которой много лет назад из голодной Молдавии тянулись пыльными шляхами на заработки к морю обездоленные люди.
Так родилась в Одессе Молдаванка — черта оседлости рабочего люда, крошечных кузниц и кустарных мастерских, где в мрачных прокуренных цехах изготовляли и цинковые ведра, и дверные замки, и детские игрушки.
Но Молдаванка жила не только ремеслом. Как всякая рабочая окраина, она жила передовыми идеями своего времени. Здесь во время событий 1905 года строились баррикады, здесь прятали, а потом переправляли в город ленинскую «Искру», здесь формировались отряды Красной гвардии, уходившие на фронты гражданской войны. И здесь в сорок первом, на заводе тяжелого краностроения имени Январского восстания, выросшем за годы Советской власти из тех самых кустарных мастерских, строили знаменитые танки.
Я нашел дом, который искал. В чистом дворике с маленьким садиком смуглая черноволосая женщина стирала в деревянном корыте белье.
— Гончарук? — переспросила она, откидывая упавшую на лицо прядь волос. — Так то мой муж! Посидите в садочку, он скоро придет,
Узнав, что меня послал Иван Максимович, женщина вытерла о подол платья мокрые руки и забросала меня вопросами. И как Иван Максимович выглядит, и почему к ним не приходит, и собирается ли он и дальше жить бобылем...
— Ой, что я стою! — всполошилась она. Открыв калитку садика, женщина усадила меня за чисто выскобленный стол, на который свешивалась любопытная голова подсолнуха. Сбегав в дом, похожий на деревенскую хату, она принесла кувшин холодного компота и поставила передо мной большую кружку.
— Пейте на здоровьичко. А Ивану Максимовичу скажите, если он к нам на днях не придет, то знать его больше не желаю! Так и передайте.
Вернувшись к корыту, она снова принялась за стирку, поглядывая с улыбкой в мою сторону.
Вскоре пришел Гончарук. Это был совершенно седой мужчина с грубым, обветренным лицом. Морщины на его небритых щеках были похожи на шрамы. На Гончаруке был заляпанный краской пиджак и старые матросские штаны. На голове у него была дырявая соломенная шляпа. В руке он держал ведро с малярными кистями,
Жена показала ему на меня:
— Иван Максимович прислал. Говорит, дело до тебя есть.
Гончарук не очень приветливо поздоровался со мной, поставил у порога ведро с кистями и вошел в дом. Мне было слышно, как он плескался под рукомойником. Вышел он причесанный, в свежей рубахе. Усевшись напротив меня, отпил прямо из кувшина компоту и спросил:
— Как там Иван?
Я рассказал о хлопотах Ивана Максимовича. Потом о своей находке. Гончарук как-то странно посмотрел на меня и горько махнул рукой:
— Знал я тех «бандитов»...
Он закурил, сильно затянулся и спросил:
— Иван рассказывал за меня? Я кивнул.
— Знал я их... — повторил Гончарук и позвал жену: — Раечка, схлопочи чего-нибудь на стол!
— Сейчас, Петечка, только белье развешу!
— Что ж, — Гончарук внимательно посмотрел мне в глаза. — Раз вы с Иваном хотите мне помочь, я и тебе расскажу все, как было. Вот только в пароходстве слушать меня не хотят. Заполнил анкету, прочитали, что в оккупации был, и полный назад! А один начальник даже спросил: «Как это вы живы остались, гражданин Гончарук? И плен, и все такое?.. Мертвому поверил бы. А живому — нет». — Лицо Гончарука дрогнуло, губы искривились. Но он быстро справился с собой и, сдвинув брови, продолжал: — Бежал я, значит. Немцы нас в Одессе, на Слободке, румынам передали. А румыны — уже не тот компот. С ними полегче стало. И подкормили, и часовой всего один. Да и тот к утру засыпал. Заперли нас в старой школе. Ждали какое-то начальство. Оно должно было определить нашу дальнейшую судьбу. Но я ждать не стал. За стеной — Одесса... Поднялся ночью на чердак, высадил слуховое окошко и вылез на крышу. Зима. Кругом бело от снега. Только черные следы часового видны. Прислушался, не идет часовой. Уснул, значит. А по соседству со школой — еврейское гетто. Забор рядом. Днем мы видели, румыны пускали в гетто торговок. Базарчик там был. Есть-то людям надо... Маханул я с крыши на тот забор, скатился вниз и зарылся в сугроб. Думаю, если хватятся, в гетто искать не станут. Оттуда одна дорога была — на расстрел... Ну вот. Дождался, когда с рассветом румыны торговок на базарчик пустили. Смотрю, старик с ними. Картошку вареную на вещи менять принес. Стал я наблюдать за этим стариком. Картошку детишкам — так дает. По головкам гладит. А на одного оборванного мальчишку посмотрел и слезу украдкой утер... Ну, думаю, подходящий старик. Борода у меня самого как у столетнего деда была. Ватничек на мне гражданский. Сжалилась над лохмотьями моими одна добрая женщина. В Николаеве еще... Выполз я из сугроба, когда старик тот уходить собрался. Народу много на базарчике толкалось. А румын-часовой у ворот в будке сидит. У печки греется. Потолковал я со стариком... Что там долго говорить. Ушел с ним. Темнеть уже начало, румын и внимания на нас не обратил. Он ведь евреев стерег... А еврея поймают в городе — расстрел, И укрывать кто станет —расстрел. Правда, бабы те слободские умудрялись детишек из гетто забирать. Увозили их на санках в мешках, заместо вещей. Это мне потом старик тот рассказал. Звали его Еремеем Прокофьичем. Ну вот. Пожил я у старика и свел он меня кое с кем. Устроили кочегаром на плавкран. Домой я не объявился. Пока документы не выправил. Жил у старика, а Рая не знала... Да... Ну вот. Дезертиром из Красной Армии представили меня. Сказали румынам, по селам долго прятался, пока до Одессы дошел. Даже справку из какого-то госпиталя достали, вроде лечили меня там от ран. Вызывали в Сигуранцу, допытывались, кто послал. Но я свое твердил: «Дезертир я, дезертир». Наконец в покое оставили. Тогда-то я и домой, к Рае явился... А таскал наш кран буксиришка «Буг». Капитаном на нем тот самый Тарасенко был. Подлюга страшный! Родную мать продать готов был, абы ему жилось хорошо. Кочегары на «Буге» — свои ребята, с Молдаванки. Кто из плена сбежал, как и я. Кто при отходе наших в госпитале лежал, родственники перед приходом оккупантов домой забрали... Сначала по мелочам работали. То брашпиль испортят, якорь выбрать нельзя, то котел забортной водой подпитают, клапана солью закипят, не откроешь... Потом с одним слесарем из портовых мастерских познакомились. А он с партизанами из Усатовских катакомб был связан. Начали настоящие задания получать. Прибегает как-то: «Хлопцы! Наши летчики под Очаковым фашистский миноносец подбили. Немцы хотят его на ремонт в Одессу вести. Пошлют «Буг» — смотрите!» А смотреть некогда, в тот же вечер Тарасенко получил приказ: сниматься к Очакову. Собрал он команду, предупредил: «Если с механизмами что случится, в гестапо отправлю!» Да и немцев на палубе полно. Хмурые, «шмайсеры» свои наизготовку держат. Следят эа каждым. А Тарасенко — зверем. Натянул фуражку поглубже, спустился в кочегарку. А фуражка у него не с «крабом» — с фашистским орлом. И мундирчик серенький, под ихний цвет справлен. Орет: «Пар на марке держать не будете, здесь же и расстреляют!» Тут ребята сгоряча и огрели его ломиком. Затащили в бункерную яму, зарыли в уголь. А на мостик старпому, тоже прохиндею хорошему, доложили, что машина готова. «Капитан у вас?» — спрашивает. «У нас, за работой кочегаров следит...» На дворе уже ночь. Только тронулись, кочегары через аварийный выход — и на корму. Оттуда по одному в воду. Немцы к тому времени успокоились. Собрались на мостике покурить. Даже «шмайсеры» свои на ремни взяли. Отошел буксир от причала, кочегары к нам, на плавкран. Целую неделю мы их в двойном дне прятали. Тарарам был страшный! А миноносец под Очаковым затонул. Не дошел к нему «Буг», некому было уголек в топки кидать. Потом кран в район Большого Фонтана работать пошел. Немцы там береговые укрепления строить начали. Выбрались кочегары ночью на берег и в катакомбы ушли...
Гончарук облизнул пересохшие губы и допил оставшийся в кувшине компот. Жена его накрывала на стол.
Взволнованный его рассказом, я спросил:
— Почему же где надо вы не расскажете об атом? За Гончарука ответила жена:
— Ходил, везде ходил, Только смотрят не на Петра,
а на бумажку!
Оглядев накрытый женой стол, Гончарук оживился:
— Ладно. Дело сейчас не во мне. Главное — сидим мы с тобой за этим столом и не боимся, что войдет оккупант и скрутит нам руки. Вот за это и выпьем!
— Я не пью.
— За такое дело трошечки можно, — сказала жена Гончарука, откупоривая бутылку вина.
И опять я шел Молдаванкой.
Темнело. За домами всходила луна. Я шел и думал: «Как помочь Гончаруку?» И вдруг вспомнил слова Мамедова: «Отнеси газету в музей, и пусть ее повесят, чтоб все видели!». Ну копечно! Нужно идти к нему, к старшему инспектору Мамедову. Гончарук обращался к высокому начальству. А начальству не до него. Мамедов вызовет Гончарука, пожмет руку, выведет в коридор и объявит: «Товарищи моряки! Пока вы били фашистов на фронте, этот человек, пережив все муки гитлеровского плепа, сражался в тылу. Куда мы пошлем его работать?» И сам ответит: «На «Клинтс»! Героические люди должны работать на героических кораблях. Пусть ходит на здоровье между Одессой и Констанцей!»
На Молдаванке у ворот было людно. Под деревьями гонялись друг за другом дети. Девушки, сидя на лавочках, лузгали семечки. Старики при свете керосиновых ламп стучали костяшками домино. А во дворах, раздевшись до пояса, умывались под кранами вернувшиеся с работы мужчины.
Рабочая окраина закончила трудовой день.