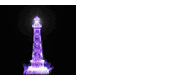Магадан
- Опубликовано: 10.06.2010, 18:37
- Просмотров: 46000
Содержание материала
Б.М. Филипченко
РАССКАЗЫ
ДЛЯ
ВНУЧЕК
УКРАИНА
Бровары
2004
Глава первая
Москва – Магадан…
Несколько лет тому назад, наверное, это было в 1999-ом году, написав рассказ о том, как я с друзьями отправился на Дальний Восток, не думал, что однажды он попадет в руки моей внучки Оли, и она будет допытываться: «Дедуля! Это правда, то, что ты написал? Потом Валя прочитала и тоже с вопросом: «А почему я раньше не читала?» Я не знал, что ответить, потому что написал под впечатлением воспоминаний давно и отложил «под сукно» с надеждой, что кто-то когда-то найдет и прочтет. Оставляя без изменений «Москва–Магадан», я решил дополнить рассказ, как в приличных романах, второй главой о нашем пребывании на Колыме. А поскольку обнаружила мою писанину внучка, то и озаглавил эти воспоминания – «Рассказы для внучек ».
И так, вспоминая колымские житейские будни, первое, что приходит на ум, – бытовые условия. Особенно деревянные нары – спутники нашего сна и отдыха, и я, ковыряясь в памяти, пытаюсь припомнить: где, когда, в каком уголке Колымы, мы, наконец, впервые улеглись спать в настоящей кровати.
А нары, собственно говоря, начались прямо с Москвы. В начале октября 1946 года, мы – это я, Володя Семененко и Боря Белов – три неразлучных друга, отчаявшись достать билеты на пассажирский поезд, во что бы то ни стало старались выехать из Москвы любым другим, чтобы успеть добраться во Владивосток до окончания навигации на Охотском море. В толпе таких же неудачников, работая локтями и кулаками, с бранью и морской «полундрой», мы взяли приступом «вагон прямого сообщения» поезда №501 Москва–Владивосток, в простонародье называемый «пятьсот веселым». «Веселое» название к поезду прилепилось в силу того, что, передвигаясь медленно по огромной Советской стране, он производил довольно грустно-смешное впечатление. При остановке на станциях из его вагонов вылетали, как из пчелиного растревоженного улья, люди и бежали: кто за кипятком, кто отоваривать хлебные карточк, кто на базар или в привокзальный буфет, а кто примитивно просто – поскорее в туалет, потому что в «веселом поезде» его не было.
Когда же поезд двигался, из его дверей и окошек-лотков (как у пчел) торчали смеющиеся или печальные, кричащие или плачущие, свистящие и поющие лица горе-пассажиров, волею судьбы утрамбованных, как селедка в бочки, в так называемые вагоны-товарняки, или по-иному – «телятники», или иначе – «теплушки», в которых обычно перевозят либо грузы, либо скотину.
Вагон – это одно-единственное «купе» для всех «утрамбованных»: с одной стороны вагона дверь и с другой такая же. При необходимости открыть, они откатываются на роликах. В глубине «купе», как слева, так и справа – двухэтажные деревянные нары с престижными «спальными» местами на втором этаже, из-за них-то и шла борьба с «полундрой» при посадке в Москве.
Во времена коллективизации в «телятниках» вывозили из родных сел и хуторов раскулаченных, репрессированных, выселяемых и перевыселяемых граждан страны Советов, а в годы войны, в 1943-м, мама и я в составе вновь сформированного для фронта госпиталя совершили бросок из далекого Урала, из Березняков, в прифронтовую Полтаву (Новые Санжары) все на тех же деревянных нарах.
Хотя и называли пятьсот первый «веселым», но далеко несмешным выглядело отсутствие в «телятниках» элементарных санитарных удобств, так называемых, уборных. И если возникала у пассажира нужда «по-маленькому» – это считалось полбеды, а если возникала – «по-большому» – то соответственно большая беда!!! И терпели пассажиры от станции до станции, как неприкаянные, а поскольку «веселый» ходил вне расписания, то остановки в пути зависели, как говорится, от «стрелочника», и наш поезд или мчался, как лошадь без поводьев, либо стоял на станциях, как вкопанный, часами.
А если кому-то и приспичивало вдруг «по-маленькому» и было невтерпеж, измученный пассажир откатывал с грохотом дверь, и, забывая о стыдливости и приличии, выставлялся перед взором всего вагона, в позе застывшей статуи с фонтанчиком. Хуже, если возникала «большая нужда»… О…о…о ! Тогда щепетильная процедура превращалась для терпящего бедствие в цирковой номер с каскадерскими трюками. В роли такого циркача оказался как-то и я...
Съев что-то в дороге несвежее и маясь животом, я превратился в объект жалостливых взглядов и язвительных насмешек. Чтобы понять трагедию несчастливца, нужно представить себе человека, со спущенными до колен штанами, полусидящего на полусогнутых ногах, с голой задницей, обращенной наружу, за дверь, висящего и балансирующего над мелькающими, как в калейдоскопе, рельсами. Для страховки, чтобы я не свалиться и геройски не погиб на железнодорожных путях, мои друзья держали меня морской хваткой, Борис – за одну руку, Володя - за другую. Как не печально, но свидетелями феноменального трюка с дефектацией на всем «скаку» поезда, стали жители близлежащих сел и городов Восточной Сибири.
Представляю, ежели сей пассаж станет известен моей внучке Нюре, ее реакция будет мгновенной, она сядет на своего любимого конька и с веселым сарказмом, видимо, произнесет: «Ну и дед! Как он опозорил нашу семью!».
«Вагон-телятник», ко всем прочим недостаткам, обладал еще одним: у него отсутствовали входные ступеньки, их заменяла висячая металлическая лестничка, и чтобы войти или выйти из вагона, нужно было по-обезьяньему повиснуть на ней, затем подтянуться руками на поручнях и на четвереньках войти в проем двери. Но если на остановке паровоз давал тревожный гудок и начинал трогаться с места, около лестнички возникало столпотворение и чуть зазевавшемуся пассажиру давали в зад такого пинка, что он влетал в вагон, как пробка из бутылки шампанского.
Несмотря на то, что «пятьсот первый» всегда подолгу стоял на станциях, мы все же ухитрились однажды отстать от него. По прибытию в Красноярск нам пришла в голову нелепая идея проведать Игоря Реброва, приятеля по училищу и местного жителя. Нашли Игоря быстро, он принял нас по-сибирски: с банькой, с водочкой, с шаньгами и пельменями, в общем, хлебосольно и щедро.
После двух недель дорожного перестукивания колес, вагонного шума и гама, отогревшись в теплом цивилизованном туалете телом и душой, очумев от приятной чистоты, и помнится даже – побрившись и нагладившись, мы, естественно забыли обо всем на свете, потеряв счет времени. Когда где-то к вечеру, мы все же появились на вокзале, к своему ужасу не обнаружили «пятьсот веселого», он укатил, простояв на станции, как ожидалось, не шесть часов, а всего около часа. Игорь и его друзья, с трудом затолкали нас в скорый поезд, который догнал наш, взбесившийся родной и «веселый», лишь через сутки, в Нижнеудинске.
В скором нас, безбилетников, в вагон не пустили и, сжалостившись, разрешили быть в тамбуре. А снаружи «стоял октябрь уж у двора», экспресс наш двигался по морозной Сибири, и холод, проникая через дверные щели, все глубже и глубже добирался до самых косточек, ибо одеты мы были, не по-зимнему, а по-курсантски в морскую форму: брюки клеш, легкие ботиночки, короткие бушлатики и на макушке – мичманки. Из тамбура одна дверь – в вагон, а другая в топочную, где стоял котел. Возле этого чуда техники, в обнимку с ним, мы по очереди и обогревались. Отапливался котел угольком, беспрерывно коптил, и, естественно, коптились и мы.
Наше появление в Нижнеудинске вызвало в вагоне веселое оживление попутчиков: «Где это вы кочегарили?» – язвительно спрашивали Володю и делали вид, что не узнают его…Что, правда – то, правда, наши чумазые физиономии говорили сами за себя, а наутюженные в Красноярске брюки представляли жалкий вид. Больше судьбу мы не искушали и от непредсказуемого «пятьсот веселого» дальше вокзала не отходили.
Через двадцать двое суток изнурительной дороги, вместо обычных десяти, исхудавшие, грязные, в обтрепанной одежде, мы прибыли во Владивосток. По длительности – этот переезд для книги Гинесса, как рекорд, не годится, однако как рекорд издевательства над гражданами Советского Союза можно было бы зафиксировать. В Находку, в порт на берегу Японского моря, добрались без приключений и быстро. В ожидании теплохода на Магадан мы поселились в так называемом транзитном городке – гостинице для колымчан. Гостиницей трудно назвать те несколько бараков, неизвестно почему окрещенных транзитным городком. В бараке привычные для нас атрибуты: вдоль стен, и справа, и слева двухэтажные нары; в проходе между ними – длинные столы со скамейками, вот и вся меблировка. В отличие от «пятьсот веселого», на улице стоял ряд умывальников и деревянные будки- уборные. Но главной примечательностью городка была баня с парилкой, вот где, наконец, мы отмылись и отпарились. Что еще нас обрадовало – это выдача каждому постояльцу матраца с постелью. Помнится, первые дни мы спали беспробудным сном, пробуждаясь только для принятия пищи.
Первого ноября 1946 года мы распрощались с «большой землей». Теплоход, на котором мы отплыли из Находки, по комфортабельности напоминал наихудший вариант «телятника». Это был грузовой теплоход, кое-как приспособленный для перевозки людей. В его трюмах, разделенных на твиндеки, были оборудованы трехяросные, увы!!!, голые нары, на которых теснились, плывущие на Колыму работники, как по вольному найму, так и те, кого везли отбывать сроки заключения в колымских лагерях. Единственное различие: вольных разместили в одном трюме, а зеков в соседнем. Мы без конвоя, а они под охраной, мы выходили на палубу свободно, для них она была запретной зоной.
Более пятидесяти лет прошло, но память до мельчайших подробностей сохранила события тех дней. Наше обшарпанное судно, не успев пройти Татарским проливом в штормящее Охотское море, начало по воле стихии то проваливаться, как в преисподнюю, то взбираться куда-то вверх к небесам; при выходе на палубу «по нужде», людям стоило большого труда устоять на ногах и не скатиться, не дай Бог, за борт; потом, цепляясь за поручни ограждения, испытывая немалое чувство страха, возвращаться обратно в «трюмную каюту». «Каюта», с верхней палубы, казалась темной грязной дырой или ямой, которая годилась для чего угодно, но только не для перевозки людей, жизнь и здоровье которых никого не интересовали, в трюмах везли груз – рабочую силу для добычи колымского золота; груз этот нужно было доставить быстро и дешево, так и поступали.
Год назад закончилась война, знаю – на войне не считались с людскими потерями, но и в мирное время ничего не изменилось, советских людей не привыкли беречь. На всякие бытовые неурядицы смотрели сквозь пальцы, списывая недостатки на войну, на послевоенную разруху. Совершенно верно, последствия войны были ощутимо разрушительными – это безусловная правда, да не вся…
Размышляя на эту тему, прихожу к выводу, что, начиная с детского сада, меня насильственно приучивали к новым понятиям и традициям: к трудовому энтузиазму, к ударному стахановскому труду, к временным трудностям, тянувшимся десятилетиями, к бесплатным отработкам на субботниках и воскресниках и т. д. Страна давно жила в тисках идеологического и физического насилия, коллективизм прививался организованно, под неусыпным контролем партии коммунистов. Сначала под руководством великого Сталина уничтожили прежнее крестьянство, объединив уцелевших в коллективные хозяйства (колхозы), а живущую в городах интеллигенцию (буржуев) ссылали, уплотняли, выселяли и появились коммунальные квартиры с общими кухнями на 5-12 хозяек, так что, добираясь с друзьями до Магадана в коллективных «телятниках» и грязных трюмах, мы не претендовали даже на примитивную комфортность, нас давно приучили к общежитию.
Обработка мозгов обывателей шла на всех уровнях, чего стоят слова с особым подтекстом из песни того времени: «Наш паровоз, вперед лети в коммуне остановка, иного нет у нас пути – в руках винтовка…». Если же кто-то и пытался высказывать сомнения и недовольство политикой властей, вмиг оказывался за решеткой, жизнь инакомыслящих в атмосфере страха была реальностью, молодое поколение росло в обстановке покорности. Уверен, что большинство обитателей соседнего со мной трюма составляли именно инакомыслящие и не покорные сталинскому режиму.
Ловлю себя на мысли, легко, мол, нынче рассуждать, смотрите, какой разумный и смелый выискался!!! А в те годы? Тогда я слепо верил пропаганде, лившейся, как из рога изобилия через радио и газеты, гипнотизируя потоком информации мою и другие ребячьи головы: об идеалах коммунизма, о том, что страна на верном пути, а впереди нас ждет светлое будущее, «партия решит – народ выполнит», о врагах народа и пособниках империализма, и прочее, прочее, прочее…
Как-то я встретил людей, не покорных сталинскому режиму. Осенью 1952 г. я открывал Кадыкчанскую радиостанцию, мне в помощь прислали заключенных для установки мачт антенны. Их было несколько человек, но запомнились трое. Разговаривая с ними, мне становилось страшно от одной только мысли, что я слушаю «крамольные» речи. Среди них, пожалуй, непокорным был один, он написал Сталину письмо о незаконных арестах своих товарищей, в ответ – его арестовали. Другого посадили по доносу соседа. Но особенно поразил третий, грузин по национальности, получивший срок за анекдоты, – 20 лет. Он больше всех говорил, коверкая русские слова, с ужасным акцентом, ругая своего соотечественника беспощадной бранью, посылая ему проклятия, я боялся даже Вале пересказывать услышанное.
Примерно через полгода, в начале марта, я машинально прослушивал эфир, и вдруг наткнулся на дальнюю материковую радиостанцию, с голосом Левитана. В первый момент растерялся, думая, что ослышался: Сталин умер!!! Подождал, пока не повторили снова сообщение, да, точно – умер Сталин.… Тотчас вспомнился заключенный грузин, неужели сбылись его проклятия? И жив ли он сам? Я знал, не все заключенные доживали до освобождения. Бывало, принимая радиограммы с приисков с ежедневными сводками, приходилось записывать слово «архив» и рядом цифра. Так шифровалось количество умерших заключенных. Умирали или погибали?
О жестокости довоенного начальника «Дальстроя» ходили страшные рассказы, я не верил этим слухам, не предполагая, насколько они были близки к правде. Недавно в книге Эдварда Радзинского «Сталин» прочитал: «… на Колыме, в этом забытом Богом краю болот и вечной мерзлоты, зверствовал некто Гаранин. Он строил больных «отказников» от работы и, обходя строй, расстреливал в упор. Сзади шли охранники, меняя ему пистолеты. Трупы складывали у ворот лагеря срубом. Отправляющимся на работу бригадам говорили: «То же будет и с вами за отказ…».
Заключенные и после войны оставались дармовой рабочей силой, и на пути к Магадану, вместе с нами, в соседнем трюме, как в запечатанной консервной банке, их везли отбывать сроки заключения на колымские прииски и шахты. А через стенку, в другом трюме, мы завербованные добровольцы, «золотоискатели», любители острых ощущений и приключений.
Хорошо запомнились те пять суток, проведенных в море: шторм – пять баллов, в нашем твиндеке хоть привязывайся, в такт с волнами нас катает и перекатывает на досках холодных нар, как в центрифуге. Вдобавок ко всему – туго с едой. Еще в Находке закончились деньги, и хватило нам купить в дорогу только пять буханок хлеба, четыре рыбины соленой кеты и немного сахарина. Дополнял рыбный рацион – кипяточек, за которым приходилось по очереди карабкаться по крутому трапу на палубу, но не всегда удавалось выйти «сухим из воды». При выходе из трюма, наверху, вместо дверей, висел кусок брезента и, когда эти символические двери отодвигались, выходящего на палубу пассажира окатывали соленые брызги разбушевавшегося моря.
Так, по мере приближения к заветной цели – Магадану, испытания мужества будущих колымчан не уменьшались, а продолжали с какой-то изощренностью нарастать, достигнув в Охотском море апогея.… В своем кругу мы не говорили о переживаемых трудностях и не показывали вида, что сожалеем о поездке на Колыму, но по лицам друзей, я нет-нет, но замечал немой вопрос: «Куда несет нас неведомая сила? Но бесшабашная молодость, закаленная тяготами прошедшей войны, толкала на авантюрные поступки, в мечтах рисовалось радужное будущее с высокими заработками, и было только одно желание: «Скорее, скорее на твердую землю, а там посмотрим !»…
Рядом, в головах наших нар, на которых мы дневали и ночевали, за невысокой металлической перегородкой, соседствовала семья Егоровых: мама, две взрослые дочери. Они страдали из-за морской болезни. Первые два дня мы перебрасывались незначительными фразами, жалуясь на штормовую погоду и холод, но потом подружились на неожиданной почве. Как я не старался, стесняясь посторонних глаз, прикрыть наш бедный стол из рыбы и черствого хлеба, однако заметил живой интерес, проявившийся у соседок к нашей трапезе. Секрет любопытства открылся довольно быстро, когда мама Егорова попросила поделиться … соленой рыбой. Они в дорогу взяли исключительно сладенькую и пресную еду. Откуда было нам знать, что морская болезнь лечится кисленькой и солененькой пищей? Вот так соленая кета оказалась для нас «золотоносным Клондайком»… Взамен мы получили трехкилограммовую банку сгущенного молока. Оживились и мы, и наши щедрые женщины. В результате натурального товарообмена состоялось близкое знакомство, которое продолжалось и в Усть-Омчуге, где я не раз бывал в гостях у Егоровых. А тогда, на теплоходе, мама Антонина Ивановна, словоохотливая женщина и на редкость добрая, не раз выручала нас, подкармливая своими продуктами. Мы же в знак признательности опекали Егоровых, снабжая кипятком для чая, и сопровождали их на палубу и обратно, так как передвигаться по мокрым и скользким трапам было небезопасно.
Морским мытарствам наступил конец ранним утром, 6 ноября, накануне октябрьских праздников, когда теплоход, наконец, пришвартовался к причалу Нагаевского порта. Магадан встретил неприветливо холодно, шел снег, и на берег мы спускались, держась за обледеневшие перила.
Весь предпраздничный день прошел в беготне и хлопотах. Сначала, в Управлении связи «Дальстроя» оформлялись на работу, меня, Володю и Бориса, оставили для стажировки на Магаданском телеграфе. Получив денежный аванс и продуктовые карточки, первым делом, мы приобрели теплые вещи: ватные брюки и телогрейки; валенки и свитера; ботинки и сапоги. Выкупили по карточкам продукты: хлеб, сушеный картофель, американские консервы, китайскую крупу гаолян и … спирт. В коммерческом магазине без карточек, и без ограничения продавались сливочное масло и рыбные деликатесы; на прилавках лежали копченые спинки и брюшки кеты, соленая горбуша, и в бочках – умопомрачительно много красной кетовой икры…, и хотя денег было в обрез, взяли полакомиться всего понемножку.
Вечером, в транзитном городке, в бараке, как две капли воды, похожем на находкинский, и опять-таки с деревянными двухэтажными нарами, устроили праздничный ужин, в честь прибытия в столицу колымского края. Как положено в таких случаях, выпили по чарке. Наслушавшись старожилов, пили чистый спирт, запивая водой. С непривычки, мало того, что обжег горло, я на голодный и отощавший желудок, в жарко натопленном бараке, моментально захмелел и первый вечер на колымской земле спал мертвецким сном.
Проснулся на другой день раним утром, в затылке тупая боль, и, не зная куда себя деть, первое, что взбрело в голову, – сбрил шикарную рыжую бороду, отросшую в пути из Москвы в Магадан, превратившись из «старого морского волка» в молоденького гардемарина. Мне было всего 19 лет…
Мои друзья, посмеиваясь, едко комментировали, глядя, как исчезала у них на глазах, гордость моей физиономии. Несмотря на исчезновение бороды, голова не переставала болеть. Но вскоре появился папа Егоров, приехавший из Усть-Омчуга за семьей. Быстро познакомившись, он утащил нас к праздничному столу, за которым Антонина Ивановна наговорила в адрес нашей троицы кучу теплых слов за джельтменское отношение, мы слушали и смущались, лесть обвораживала молодые сердца и, в конце концов, нам самим пришлось поверить, что совершили что-то чудесное в этой безумной поездке. Похвала не сняла головной боли, я по-прежнему находился в состоянии депрессии, не ел и не пил. Иван Иванович меня уговаривал, но потом твердо настоял, говоря: «клин клином вышибают» и, буквально, заставил выпить брусничной настойки. Не сразу, конечно, а чуть позже, я почувствовал облегчение, боль с затылка ушла, в голове посветлело, а в груди потеплело… Так я познакомился с алкогольным термином – «с похмелья». Егоровы на другой день уехали в свой Усть-Омчуг, а нас обступили частоколом новых забот и проблем магаданские будни.
Из транзитного городка нас перевели в общежитие, тот же барак, но с отдельными комнатами, в одной из них поселились мы. Однако трудности остались те же: холод и на первых порах плохое питание, и опять – деревянные нары. Мерзли, как цуцики из-за глупости, держали фасон и форсили в своих бушлатиках и ботиночках, не пойдем же мы на телеграф в ватных брюках и валенках… Магадан всегда славился сильными ветрами, а в тот год и мокрыми снегопадами. Ботиночки промокали и не успевали просыхать за ночь; брюки, сложенные, как для глажки сушились в кровати собственным теплом; барак отапливался скверно, ветер гулял по комнате как в чистом поле; укладываясь спать, натягивали на себя свитера и прочие теплые вещи. Ночь катилась медленно и долго под заунывные песни ветра за окном, во сне я жил только одной мыслью: «Поскорей бы наступило утро»…
Утром, по дороге на телеграф, забегали в столовую, где питались по талонам: «завтрак–обед– ужин». Обычно на завтрак подавали кашу из гаоляна с рыбой, и чай с хлебом. Днем уничтожали обед вместе с ужином. Хлебного пайка, 900 гр., растянуть на весь день не удавалось, «малогабаритная», некалорийная пища не могла насытить молодой организм. Вечером, придя, домой, в общежитие, варили на электроплитке сухую картошку или кашу из гаоляна, ничем незаправленую, кроме соли… Бывали и гороховые вечера… Деньги катастрофически быстро таяли, к концу месяца наша касса пустела до нуля. Зарплата на первых порах была невысокой, кроме подоходного налога с нас драли налог за бездетность (надо же такой придумать!) и высчитывали аванс, взятый на покупку теплых вещей.
Спасались мы от неустроенного быта общежития, от мерзкой погоды и житейских забот – на работе, где проводили большую часть времени, особенно вечерами. Здесь, в светлом зале телеграфа было тепло и уютно. Под стрекотание телетайпов царила атмосфера таинства рождения незримой, беспроволочной связи с таежными поселками и «материком». На языке колымчан «материком» называлось все, что было за пределами колымского края.
Когда я одевал головные телефоны, и садился рядом с дежурным радистом дублировать прием радиограмм, я забывал все на свете. Звучавшие в ушах точки-тире азбуки Морзе, превращавшиеся в слова и фразы радиосообщений, вызывали во мне чувство причастности к необычному процессу, доступному и мне, и я был необычайно горд собственной персоной. Иногда нам доверяли проводить радиосвязь самостоятельно, но таежные радисты не терпели медлительной работы в эфире и свое недовольство нами выражали своеобразно, передавая быстро одну букву «н», что на языке радистов значило: « Катись к чертовой …» !!!
Среди радистов телеграфа выделялся мастерством Борис Козлов. Это был асс своего дела. Со здоровой завистью я поглядывал на Бориса, восседавшего на высоком стуле. Перед ним пишущая машинка, и он, мягкими, изящными ударами пальцев по клавиатуре, выстукивал на бланке слова радиограммы, успевая при этом разговаривать, давать советы и делать замечания сидящим рядом стажерам.
Во время дежурства Бориса мы крутились около его рабочего места, стараясь перенять секреты его мастерства, он с удовольствием и терпеливо внушал: «Не надо сразу писать на бумаге то, что слышишь в эфире, старайся читать на слух, запомнить, а потом записать». Чаще всего, он разрешал мне поработать с корреспондентами, пока отлучался покушать или покурить. Может быть, благодаря этой избранности и Борисовой науке, я быстрее Володи и Бориса Белова прошел стажировку радиста-слухача. Много позже, уже в Усть-Омчуге, я ничего не записывая, а только на слух, мог легко вести переговоры на языке морзянки.
Борис Козлов иногда навещал нас в общежитии и, видя наш скудный общепитовский быт, забирал меня с друзьями к себе домой, на ужин с чаепитием. Володя и Боря Белов хорошо играли на гитаре, в нашем репертуаре было много популярных песен, и как только начинали звучать знакомые мелодии, на огонек в комнату Козлова сходились соседи, и вечер песен и шуток длился до поздней ночи.
Колымчане – особенный народ, чувство локтя и товарищества там особенно развито и ценится; и ничего не было удивительного, когда к Борису, без всяких приглашений, набивались экспромтом знакомые или не совсем знакомые люди; тащили для угощения запасы провизии, лишь бы посидеть в кругу друзей, поболтать или послушать о родных краях. Оторванность от «материка» объединяла на Колыме людей независимо от профессии и возраста, там действовали более доверительные отношения.
Примерно через три месяца завершилась стажировка, я уехал «в тайгу», так говорили о тех, кто уезжал из столицы Колымы к месту назначения. Направили меня в Усть-Омчуг заменить начальника узловой радиостанции Стеклова, работавшего там безвыездно с довоенных лет.
А тем временем, пока налаживалась моя жизнь в Магадане и Усть-Омчуге, на «материке» шла деятельная подготовка к отправке в Магадан большой группы девушек, и ровно через год, от перрона Казанского вокзала Москвы, отошел пассажирский поезд «Москва – Владивосток». На спальных полках вагонов весело верещали девичьи голоса. Сто сорок девушек, выпускниц ремесленных училищ связи, отправлялись на Колыму отрабатывать трехгодичный срок.
В одном из купе среди подружек выделялась Валюша Калюжная, веселая и жизнерадостная заводила из группы выпускниц Лабинского училища связи на Кубани. Болтая о будущей работе на Севере, девушки вряд ли задумывались над тем, что их ждет впереди.
А ехали они на край света, где 90% колымского населения составляли мужчины, контингент которых состоял из приехавших добровольно по вербовке, из отбывших сроки заключения, из сосланных сюда за политические взгляды, спецпоселенцы из бандеровцев и полицейских в годы оккупации. Спецпоселенцы – это бывшие военные, побывавшие в плену у немцев и т.д., и т.п.
И всем этим мужикам для обзаведения семьи не хватало женского общества, и чуть ли не на берегу Охотского моря вся эта братия сидела, свесив в воду босые ноги, с надеждой всматриваясь в горизонт, не появился ли долгожданный теплоход с будущими подругами и женами.
Под перестук колес в теплых спальных вагонах девчатам снились радужные сны и ведать они не ведали, что ждет их скоро первое испытание, морской переход из Находки в Нагаево, и будут они, как и я с друзьями год назад, мерзнуть на холодных деревянных нарах в трюмах теплохода, по иронии называвшийся «Феликс Дзержинский».
И не ведала Валюша Калюжная, и не гадала, что в Магадане, в коридоре Управления связи, приглянется она молодцу в морской форме, Боре Филипченко, мотавшемуся из кабинета с кабинет по служебным делам, но успевшему между тем с интересом приглядываться к ладной фигурке девушки в сапожках, пританцовывавшей в кругу подружек, ожидавших назначения на работу.
И каково было его удивление, когда на другой день он столкнулся с девчатами у почтовой машины, отправлявшейся в тайгу. Среди них была и Валюша, все они ехали в Усть-Омчуг. Разместились кое-как среди посылок и мешков с письмами, каждый нашел себе удобное место, и машина покатилась по тряской таежной трассе, монотонно укачивая своих пассажиров. Замерзнув, я перебрался поближе к небольшой тлеющей печурке, а, проснувшись ночью, вдруг обнаружил, что дремлю рядом с приглянувшейся мне Валюшей. Я стеснялся заводить с девчонками разговор, хотя знал, что одна из них будет работать у меня, и поэтому всю дорогу меня мучил вопрос: «Кто из них назначен ко мне на радиостанцию?». В мечтах – это была Валюша…К сожалению, ею оказалась другая – Вера Захарова.
Но все равно, я думаю, сам Бог свел нас в дороге, у теплой печурки, и, хотя мы еще ничего не знали, но судьба наша была уже решена… Через год, в 1948 году, в марте месяце, я привез Валюшу в Челбухан.
Ноябрь 1999 г.
Глава вторая
Колымские были
Колыма - это, безусловно, не Арктика. Здешние суровые условия жизни сравнимы лишь с арктическими: зимой – сорокоградусные морозы и «зимники с наледями» (зимняя дорога по реке), по которым «плывут караваны» автомашин с грузами для глубинки; летом – таежное бездорожье с тучами жужжащих, надоедающих комаров и мошкарой, в таежных поселках - отсутствие элементарного жилья; в магазинах – пустые полки, без необходимого набора продуктов, не говоря уже о фруктах и овощах; и работа, связанная с добычей золота, олова, угля и т.п., она требует отдачи всех сил где бы ты не работал. Контингент работающих северян разношерстный: специалисты, приехавшие по договорам на срок не менее 3-х лет, в том числе и я. Но основная рабочая сила – бесправные заключенные, пачками гибнущие от каторжного труда и беспредела, также ссыльные - бывшие полицаи и бандеровцы, спецпоселенцы – наши солдаты и офицеры, побывавшие в плену у немцев.
В 19 лет, приехав на Колыму, мне, неопытному выпускнику училища («салаге»), оторванному от родных пенатов, было нелегко осваивать первые азы радиста-слухача, а затем стать начальником радиостанции. Прошло сколько уже лет, я никогда не оценивал полезность вклада своего труда на Колыме. Работал, как все, но на память приходят разные мысли: где, когда, с кем работал? И получается, что за семь с лишним лет, с 1946-го по 1954-й год, мне только дважды посчастливилось трудиться на обжитых станциях: на центральной в Усть-Омчуге, где я прошел первую школу выучки самостоятельности, и на более мощной, у речников – на берегу реки Алдан, в поселке Хандыга, в Якутии. На остальных четырех – в разных уголках Колымы – мне выпала, как бы сказать, честь, что ли, быть «первооткрывателем» новых радиостанций: первая – на берегу Охотского моря, в поселке Ола, потом – в глухой тайге, у геологоразведчиков Челбухана, следующая – в центре горнодобывающего района, в поселке Сусуман. И последняя, в поселке Кадыкчан – центре угольного бассейна, где мне помогали ставить мачты для антенн политзаключенные, где впервые пришлось услышать, за какие такие грехи эти люди отсиживают сроки по 25 лет… Оказывается, за анекдоты, за неосторожные разговоры о власти, за выступление на собрании в защиту товарища… Помню, как я пугался даже слушать подобные разговоры, и не верил поначалу, что такие случаи могли быть, но в их искренность нельзя было не поверить.
Что такое радиостанция в колымских условиях? Иногда – это единственная ниточка, связывающая оторванный бездорожьем таежный поселок от внешнего мира. Я любил свою работу с ее тайнами эфира, любил радиовстречи с друзьями, когда разговор шел на только нам понятном языке морзянки. Передавая или принимая радиограммы, я волей-неволей становился свидетелем чьей-то судьбы или делового разговора. Жили мы часто в одном помещении с оборудованием радиостанции, так что рабочий стол с аппаратурой порою стоял рядом с постелью.
В Челбухане радиостанция находилась в бревенчатом срубе, между бревнами прослойка изо мха. Дом из двух половин: первая – баня, вторая – из двух комнат для радиостанции. В одной комнате – аппаратная, тут же двигатель с генератором, в другой – наше жилье, между комнатами дверей не было, вместо них висело одеяло. Отопление – печка из железной бочки, с трубой, уходящей прямо в потолок, вместо кроватей – деревянные нары с матрацем, набитым сеном, мебель самодельная: стол, скамейки, полочки для посуды и др.
Сюда, в 1948 г. привез я Валюшу, здесь мы стали мужем и женой. Отсюда начался отсчет нашей супружеской жизни, и уже более 55 лет мы вместе. Здесь, в морозный, апрельский день 1949 года, Валя рожала Игорька, и если бы не ссыльная бабка с Украины, то роды пришлось бы принимать самому. Мы опоздали в роддом, а ближайший от нас в 25 км, и сплошное бездорожье. В тот же день из Усть-Омчуга все же пробилась по «зимнику» машина с акушеркой, и хотя роды были позади, ее приезд был нелишним и очень кстати.
Челбухан расположен на берегу реки Дитрин, притока реки Колымы, богатой рыбой: хариус, каталка, линок. Ловили мы рыбу по-варварски: аммонал, капсюль и бикфордов шнур служили взрывчатым устройством для глушения рыбы, а ловили ее голыми руками на перекатах. Эти места также богаты дичью: весной и осенью при перелетах утки, гуси, летом рябчики, глухари, зимой куропатки и зайцы, было бы только ружье и боеприпасы. Водятся там и медведи, но этот зверь требует к себе более серьезного оружия и особого охотничьего опыта.
Через год Валюша вновь рожала, на этот раз в больничной палате. В роддоме Усть-Омчуга на свет божий появился Вовка. Однажды его чуть не подменили. Когда на кормление разносили детей, то по ошибке принесли не Вову, а какого-то рыжего парубка. Валя позвала санитарку: «Нянечка! Это не мой ребенок!» Та в ответ: «Что ты, что ты доченька, как это не твой?». Хорошо, что из соседней палаты раздался крик: «Няня! Вы кого мне принесли? Мой рыженький…».
Месяц спустя геологов Челбухана перебазировали в другой район, и мою радиостанцию законсервировали. Мне предстояло выехать в Сусуман открывать новую радиостанцию. Игорьку исполнился только год, а Вове и того меньше. Впереди нас с Валюшей ждал непростой переезд с детьми: Челбухан – Усть-Омчуг – Магадан – Сусуман, почти 1000 км на колесах.
Никаких неожиданностей не произошло, и в Магадане, загрузив машину оборудованием и аппаратурой, пристроив закутанного в одеяла Игорька, между собою и водителем, мы выехали в Сусуман. Валя с Вовой выезжали на другой день почтовой машиной.
Колымская трасса – не асфальт, это дорога, укатанная мелкой щебенкой, проложенная в распадках между сопками, с крутыми подъемами и спусками. Был конец зимы, еще лежал снег и было морозно, в кабине вроде и тепло, но чувствуется сквознячок. Игорька укачивало, и он больше спал. Памперсов раньше не было, горшок на ходу не поставишь и приходилось малыша часто переодевать. На трассе через каждые 150–200 км дорожные поселки со столовой, где можно передохнуть и перекусить, здесь мы сушили «доспехи» Игорька.
В Сусумане, в конторе связи, куда мы прибыли через сутки, сынишка закатил скандал, он хотел кушать, ему надоела сухомятка. На его плач и гам сбежался народ разглядывать вновь прибывшего начальника радиостанции с ребенком и без мамы. Сердобольные женщины, сотрудницы конторы, успокаивали малыша и спешили накормить кто чем мог, а вскоре появилась даже манная каша, скандалист утихомирился, конфликт временно был исчерпан.
Вышел на шум и начальник района связи (РОС-2), интеллигентнейший человек, Казаковцев Венедикт Дмитриевич, и после обмена приветствиями сообщил мне, что на радиостанцию назначена уже радистка. «Какая радистка? – удивился я, потому что знал, что это место предназначено Вале. В ответ прозвучала знакомая фамилия: «Калюжная Валентина Александровна». Улыбнувшись, я облегченно сказал: «Да это же моя жена, она следом едет с младшим сыном!»
Валюше всего лишь 20 лет, сыновья рождались один за другим: Игорек –18 апреля, а Вова – 10 апреля на другой год, и только через месяц после после родов – Валя в дороге более 10 дней, с небольшими остановками в Усть-Омчуге и Магадане. Время зимнее, на руках месячный Вовка, условий в машине никаких, а покормить грудью, перепеленать и сменить пеленки нужно, и главное – сына не простудить. О своем здоровье не думала и не беспокоилась, а «плоды пожинает» на старости лет – венозное расширение сосудов на ногах. Не тогда ли, в дороге, не убереглась, ведь брюки у женщин еще не были в моде, хотя многие ходили в ватных, не стесняясь.
Холод, холод, холод – злейший спутник быта колымчан, возможно, позже он стал причиной смерти Игорька? Не простудись он в транзитном городке Магадана, в октябре 1950 г., когда мы ожидали последний теплоход, чтобы выбраться в отпуск на «материк »…? А может быть, корь, которую подхватили где-то? Живу с непреходящей душевной болью, чувство вины перед мальчишкой не покидает всю жизнь, этого забыть невозможно. Прости меня, сынок, что не уберегли тебя…
Мысленно ловлю себя на бабушкиных воспоминаниях о своем сыне-первенце, моем отце. Она, стоя на пороге вечности, ни на минуту не забывала о нем, о его детских годах, о стремлении стать моряком и путешествовать. Мечтам его не суждено было сбыться. Но когда пришло время ехать мне на «край света», помню, как он отговаривал меня в Ленинграде от этого шага. Чтобы я сказал ему, если бы пришлось вновь поговорить, после возвращения с Колымы?
Милый папочка! Несравнима твоя морская романтика с той действительностью, с которой столкнулись мы с Валей на Севере. Эх! Екнуло бы твое сердце, поди ты узнай, как я, без всяких фантазий, совершил путешествие через ПОЛЮС…, нет-нет, речь идет не о Северном или Южном, а о нашем советском «Полюсе Холода».
В начале 1952 года я получил новое назначение на должность начальника радиостанции поселка Хандыга, на берегу реки Алдан, в Якутии. Путь туда предстоял неблизкий, 800 км. К тому же через трудный Верхоянский хребет. Выехали на фельдъегерской автомашине. В кабине машины, рядом с водителем Иваном Козловым (однофамилец радиста Бориса из Магадана) находился фельдъегерь, а я в крытом кузове. В дороге мы менялись местами. Я в ту пору был заядлым охотником и с собою взял ружье. Пока машина пробиралась распадками между невысокими сопками, покрытыми стлаником, я на ходу успел подстрелить два зайца. На прииске «Центральный», где мы остановились на отдых, местные радисты приготовили из зайчатины жаркое. Это был последний поселок на левом берегу реки Индигирки, которую на другой день нам предстояло форсировать по льду.
Старожилы предупреждали, что на нашем пути встретятся места с невероятно низкими температурами. В кузове все время теплилась печурка. Пол был устлан ворохом сена, на нем огромный тулуп. Я, одетый в ватные брюки, телогрейку и полушубок, лежал на мягкой постели, укрытый еще одним тулупом.
После переправы через Индигирку машина надрывно загудела, круто забираясь на Яно-Оймяконское нагорье. Затем по неустроенной, ухабистой дороге, прижавшейся к подножию скалистого хребта, медленно начала пробираться по узеньким проездам, зажатым с одной стороны каменистыми нагромождениями, а с другой стороны – обрывистым краем дороги. От одного взгляда на уходящие вниз крутые склоны сердце испуганно замирало. Быстрой езды такая дорога не допускала, и временами машина вынужденно пятилась назад, прячась в так называемые «карманы», дабы уступить и пропустить встречный автомобиль. Преодолев перевал, с его острогорбатым покрытием, машина неожиданно вкатилась в одноэтажный поселок, зажатый скалистыми горами на заснеженной равнине. Это и был знаменитый ОЙМЯКОН – «полюс холода» на советской территории, где зафиксированы самые низкие температуры в СССР.
Всякие морозы приходилось испытывать раньше, но оймяконские – первый и последний раз. Ртутный столбик термометра замер на отметке – 52 0 С. Дышать на жгучем морозе было просто опасно, рот и лицо приходилось прикрывать шарфом; при выдохе изо рта вырывалась струя шипящего воздуха, состоящего из малюсеньких серебристо-сверкающих льдинок, которые производили на лету шуршащий свист. Пробыли в Оймяконе недолго, мотор не глушили, ибо вода в радиаторе замерзла бы моментально. Перекусив, что осталось «от зайца» и, запив крепким чаем, выехали дальше.
Чай на Колыме – это как наркотик, и на «черном рынке» за него платили бешеные деньги. Водители, чтобы не заснуть в дальней дороге, пили, так называемый, «чифирь». Это когда заваривали пачку 50-граммового чая на 0,5 л кипятка. Напившись густо заваренного, кирпично-оранжевого напитка, придающего энергию и силу, водитель мог бодрствовать, не боясь заснуть за рулем. Признаться и мы с Валей испытали действие «чифиря» на себе. Это было 4 декабря 1948 г., мы шли пешком из Челбухана в Усть-Омчуг оформить в ЗАГСе наши супружеские отношения. Шли по «зимнику», рассчитывая, что нас нагонит какая-нибудь машина с прииска «Бодрый», но прошли километров 15, никто нас не подобрал. Вижу, что Валюша совсем притомилась, она уже под сердцем носила Игорька, а до поселка осталось не менее 10 км. Сделали привал, на костре подогрели консервы и заварили «чифирь». После принятия чудодействующего напитка я за Валей еле поспевал, в ЗАГС влетели за несколько минут до закрытия, пришлось упрашивать регистраторшу выдать свидетельство, не откладывая акт бракосочетания на другой день. Так что крепкий чай – испытанное средство для бессонницы. Пристрастие к чаю, должен сказать, фамильная черта моей семьи.
На пути к Хандыге нашей машине предстояло перебраться через хребет Сунтар- Хаята. Слов и эмоций не хватает обрисовать пролегающую чрезвычайно близко к краям обрыва дорогу с опасными поворотами, которая тянется узенькой ленточкой, аккуратно вырубленной и отобранной человеческим каторжным трудом у скалистых гор (видимо не одна тысяча зеков тут полегла). С высоты выше птичьего полета, наверное, эту дорогу трудно увидеть, потому что она выглядит паутино-тонюсенькой ниточкой, по чьей-то воле прочерченной вдоль горных вершин. По этой ниточке, надрываясь мотором, медленно продвигался почтовый грузовик, взбираясь на Верхоянский перевал, на языке альпинистов, относящийся к труднодоступным вершинам «высокой категорийности».
Всматриваясь в глубокие бездонные обрывы, можно было увидеть на его склонах обломки автомашин, потерпевших, когда-то аварии, и сердце тревожно сжималось, так как я знал,что не всякий водитель соглашался на рейс Сусуман – Хандыга. И, несмотря на уверенность и опытность Ивана Козлова, я облегченно вздохнул, когда почувствовал, как машина медленно, а затем все быстрее и быстрее, повизгивая тормозами, начала спускаться по взгорью вниз и, наконец, покатилась, набирая скорость по ровной дороге.
Восемьсот километров за четверо суток путешествия вспоминаются яркой картиной заснеженных сопок Колымы и скалистых гор Якутии, ведь не каждому было дано провояжировать, мягко говоря, по карнизу Верхоянского хребта, испытав на себе пронизывающий холод морозного Оймякона.
Валя прилетела в Хандыгу с Санькой на самолете, он еще был грудным ребенком. Вову мы оставили у родителей Вали в станице Крымской, на Кубани, когда возвращались из отпуска. Перепуганные безвременной потерей Игорька, еще сильны были переживания, мы не решились везти годовалого Вовку на Колыму.
Вернусь немножко назад – в Сусуман, куда после отпуска я опять получил назначение. Это был поселок больше Усть-Омчуга, центр горнодобывающего района, с улицами и добротными домами; сетью учреждений и магазинов, крупной телефонной станцией и даже аэропортом. Радиостанция находилась в оштукатуренном доме с печным отоплением. Часть дома занимала аппаратная и моторная, а в другой половине жил обслуживающий персонал. У нас с Валюшей было две комнаты, отдельно – общая кухня. Мы пользовались одним из цивилизованных достижений спальной меблировки – спали не на деревянных нарах, а на кроватях с панцирной сеткой. При доме жил дневальный, расконвоированный заключенный, он занимался уборкой и топил печи. Короче, здесь царили человеческие условия труда и быта.
Я не зря припомнил телефонную станцию, ибо там работала телефонисткой Валюша. Место радиста на радиостанции было занято и ей пришлось осваивать новую профессию. Она не хотела, капризничала, но деваться было некуда, уговорил обаятельный Казаковцев. Венедикт Дмитриевич симпатизировал нам, вернее, больше Вале. Худенькая, с хорошо сложенной фигурой и красивыми ножками, тонкими чертами лица и заразительным смехом, она нравилась мужчинам. Освоив технику соединения абонентов на коммутаторе, и набравшись опыта, Валюша в вечерние часы собирала на линии, как она говорит, «пол Колымы», чтобы «потравить», в переводе на женский язык «поболтать». Бывало она подключала и меня, послушать, как ей объяснялись в любви… Был один «влюбленный» снабженец из горного управления, он знал Валин голос по телефону, и как-то в универмаге нам показали «снабженца». Увидев невзрачного мужчину, Валя звонко рассмеялась и было смешно смотреть, как он завертелся на месте, узнав ее смех. Он крутил голову во все стороны, пытаясь найти в толпе виновницу смеха, но было поздно, мы быстро отвернулись.
На телефонке подруги Вали относились друг к другу бережно и, когда она ходила беременная Санькой, чисто по колымским негласным законам содружества, часто подменяли ее, а в ночное время, укладывая на стульях отдохнуть, брали на себя ее работу. Но 4 марта 1952 г. поздно вечером начался переполох, настала пора Вале рожать, а роддом в 20 км от Сусумана, в Нексикане. И опять Казаковцев по тревоге срочно разыскивал шофера, а потом я, сидя с Валюшей в кабине грузовой автомашины, нервничал и молил Бога, чтобы роды не произошли в дороге. Но все обошлось. Пока я возвращался домой, Валю, не успевшую пройти санобработку, санитар Кузя подхватив на руки, бегом понес на акушерский стол…
Сусуманская телефонка в ту ночь работала в дежурном режиме с Нексиканским роддомом, сводки поступали, как «с передовой»: «Еще не родила…», – «Нет, еще не родила, но скоро…» и, наконец, долгожданное сообщение: «Филипченко! Поздравляем! Валя родила мальчика…! Сына назвали Сашей в честь деда Калюжного.
После Сусумана была Хандыга. Это небольшой порт на берегу судоходной реки Алдан, притока реки Лены. Судьба все-таки свела меня с речниками Северо-Якутского пароходства, куда я должен был приехать по назначению еще в 1946 году, но не по своей воле, так и не прибыл в Якутск.
Хандыга из всех радиостанций, на которых я работал, по объему загруженности, была самой крупной, и точнее ее называли - радиоцентром, так как для дуплексной связи был предусмотрен выделенный приемный пункт и штат персонала состоял из 10 человек. Радиодом стоял на высоком берегу Алдана, полноводной быстрой реки, через окно аппаратной видны были проходящие мимо пароходы, тащившие за собой баржи. За стеной аппаратной – наша комната, в ней, кроме большой кровати, стоит детская кроватка Саньки. Когда мы приехали, Саня первые два месяца вел себя спокойно, Валя покормит грудью, и он спит. Единственное, беспокоили его мокрые пеленки, и он начинал, как старичок кряхтеть. Окружающие удивлялись: «У вас ребенок есть?» – «Да, есть!» – «А где он, его никогда не слышно?». Скоро все услышали нашего молчуна, он забастовал. Нам, занятым работой, некогда было к Сане подойти, а он за стенкой орет благим матом, но стоило его один раз взять на руки и занести в аппаратную, как он почувствовал нашу слабинку, и с тех пор не было от него покоя. Порою, когда его крики достигали самой высокой ноты, Валя или я шли к нему, пробовали отвлечь погремушками, но он упрямо, стоя в кроватке, тянул свои ручонки… Он еще не говорил, еще не ходил, ему было всего шесть месяцев, но умел стоять и кричать. Крикуна, конечно, забирали в аппаратную, и он не слазил с рук, при чем, ему было все равно, у кого он на руках: у меня или у Вали, или у радистки Панночки…
В Хандыге, в прямом смысле слова, людей кормила река: во-первых, всегда свежая рыба, во-вторых, на той стороне Алдана, на лугах, росли роскошные травы, там заготавливали сено. Местные жители держали коров, кур, гусей и другую живность, на огородах росла зелень, с низовьев на баржах завозили капусту, огурцы и картофель, в общем, никакого сравнения с колымскими условиями жизни. Но пробыли мы там недолго, так как я подменял начальника радиостанции Савельева, уехавшего в отпуск, и через семь месяцев возвратились обратно в Сусуман. Несмотря на кратность пребывания в Хандыге, жизнь нам понравилась тем, что в рацион нашего питания, особенно Сани, входили продукты с полным набором витаминов, чего не хватало на Колыме.
Уезжали из Хандыги вначале зимы 1952 года, Валя с Саней самолетом, а я с тем же Иваном Козловым, на том же грузовике, через тот же Верхоянский перевал, и по льду той же Индигирки в Сусуман. На этот раз, правда, мы загрузили машину мешками со свежей картошкой, и капустой, и бочками соленых огурцов. Такого добра в Сусумане не сыскать.
В Сусумане возникли проблемы, несмотря на прежние договоренности. И.о. начальника РОС-2 Ольшанский не хотел вернуть меня на сусуманскую радиостанцию, и поведение его понятно, потому что он сам не желал освобождать место вернувшемуся из отпуска Казаковцеву В. Д. В конце концов, Ольшанского перевели в другой район, но и Казаковцев не сумел восстановить меня в Сусумане.
Где-то с месяц я сидел в резерве, очень обиженный, мне предлагали радиоузел в Мяките, но я еще больше обиделся, так не имел желания возиться с радиотрансляцией – это не моя стихия… Тогда мне предложили открыть новую радиостанцию в Кадыкчане, в ста километрах от Сусумана. Выхода не было, пришлось согласиться.
Кадыкчан – центр угольного бассейна Колымы. Поселок небольшой, но растянутый вдоль сопок на несколько километров. Домик под радиостанцию выделили на самом краю поселка, рядом с нами – другого жилья никакого, не считая длиннющего здания конюшни. Но наш дом – уютный и теплый. Валя с Санькой приехали, когда я ставил мачты с присланными в помощь политическими заключенными. Зима была в полном разгаре и перекуры, чтобы согреться, делали в доме. Конвоиры в дом не заходили, не положено, и зеки, видя мое доброе расположение, откровенничали со мной о порядках в лагере и за что они отсиживают по 20–25 лет. Валя их подкармливала и поила чаем, мне было жаль этих измученных людей, потерявших веру в справедливость и возможность когда-либо вернуться домой.
Запустив в эфир радиостанцию, я потом маялся от безделья, корреспондентов было мало, свободное время уходило на охоту. Завели себе собаку-щенка, назвали Барсом и он стал первым другом Саньки. Уморительно смешно было смотреть, как соскучившись за Саней, Барсик вставал передними лапами на кроватку, заглядывал на спящего друга и скулил. А когда они вдвоем устраивали беготню, Барсик догоняя Саню, хватал зубами за трусики и стаскивал их до колен…
Кадыкчан памятен тем, что здесь Саша начал ходить, ему исполнилось 9 месяцев, и он пошел самостоятельно. А Вова сравнительно позже, когда ему было больше года.
Не знаю, как сложилась бы дальнейшая жизнь, если бы не произошла трагедия в Крымской. На день рождения Вовы, 10 апреля 1953 года, дед Саша и бабушка Тоня пригласили гостей, пришла одна из родичей с пьяным военным летчиком, тот затеял ссору с Ромкой, племянником бабы Тони, и она, разбороняя подвыпивших мужиков, встала между ними. У летчика в руке оказался пистолет, случайно или нарочно – он выстрелил, и пуля прошла через сердце бабы Тони и Ромкину руку… Это несчастье заставило Валю срочно улететь на «материк».
С отъездом Вали и Саньки изменился и мой статус, мне передали в подчинение радиоузел. Его здание было ближе к центру, и я перебрался туда, да и причина была веская. На Валино место приехала новая радистка Людмила Григорьева (она работала у меня в Хандыге) с дочерью, так что домик радиостанции мне пришлось освободить для них.
Жизнь кардинально перевернулась в худшую сторону. Работа превратилась в скучное времяпровождение на радиоузле, через который транслировались магадано-колымские новости. Единственное удовольствие доставляло выйти на крыльцо дома, посвистеть в сторону радиостанции и оттуда «прилетал» очень довольный Барсик. Саньки не было, и мы оба скучали. Оставаться без семьи здесь не имело смысла, ехать Вале обратно – тем более, и я подал заявление на увольнение.
Промаявшись в Сусумане почти месяц в ожидании самолета, я распрощался с Колымой навсегда, улетев через Киренск – Иркутск – Новосибирск – Свердловск – Горький и Москву в Краснодар, где меня встретила Валюша, и оттуда в Крымскую.
Была осень, и в день приезда было дождливо. Когда мы подошли к дому Калюжных, на веранде застали картину: за длинной скамейкой стояли два парубка, перед каждым тарелка с борщом, в руках большие ложки, у Саньки лицо измазано ото рта до ушей, у Вовки почище… Немая сцена – родители приехали. Я к Саше: «Санечка! Здравствуй…», а он от меня в сторону и смотрит, как-будто я чужой, за полгода совсем отвык… А Вова, хотя не виделись два года, наоборот, бегом ко мне: «Папа… папа!» Сане было 1,5 года, а Вове – 3,5. На второй или третий день мы уехали в Сочи, к моему отцу.
Промучившись полгода, если не больше, в поисках и работы, и жилья, мы из Сочи переехали к маме, в Винницу, и чуть снова не отправились в Магадан. Валя, пока я ездил в Москву «искать счастья», запросила нашего покровителя Казаковцева, можем ли мы вернуться обратно, на что он ответил: «Приезжайте, место работы нач. радиостанции Адыгалах, льготные надбавки сохраняются». Адыгалах – километров на 200 дальше Кадыкчана, база дорожников на колымской трассе. Поблагодарили телеграммой отзывчивого Казаковцева, но на Север ехать не понадобилось, потому что я вернулся в Винницу с хорошими вестями: меня приняли на работу в Киевский радиоцентр, а вернее, в радиопередающий центр Броваров. 7 мая 1954 года я приступил к работе радиотехником, и нам даже дали жилье, предоставив одну комнатушку. Мы и этому были рады. Спасибо покойному Вячеславу Николаевичу Рыффе, он сам когда-то работал в Якутии, симпатизировал северянам и принял меня на работу, по-братски приютив в Броварах.
Хочу закончить колымскую тему объяснением географического расположения Колымы, она подобна с заброшенным на край света островом, и попасть на этот своеобразный остров можно лишь летом, в навигацию, потому что в другое время года Охотское море у берегов Магадана замерзает, и тогда караваны судов проводят в бухту Нагаево ледоколы. Не зря же в лексиконе колымчан ходила и ходит шуточная приговорка: «Колыма – чудесная планета, двенадцать месяцев зима, а в остальное время – лето».
Да, в зимнее время года Колыма оторвана от «материка», как звезда на далеком небосклоне, и поэтому Колыму и называют «планетой – на краю света». И, тем не менее, как выразился Эдвард Радзинский, эта «забытая Богом земля», явилась для меня лично не только школой профессионального мастерства, но и суровой школой возмужания и вступления во «взрослую» жизнь. Все самое главное в моей жизни происходило первоначально на Колыме: здесь впервые началась моя трудовая биография радиста-слухача, здесь я женился на любимой женщине, моей Валюше, здесь родились наши сыновья: Игорек, Вова и Саня; отсюда, образно говоря, мы шагаем с Валей, рука об руку, более пятидесяти пяти лет, и нужно признаться, что все эти годы Валя стойко выдерживает и мужественно переносит мой несносный и вспыльчивый характер.
Я всегда избегал выражаться высокопарными словами, но нахлынувшие воспоминания заставляют подобрать хотя бы несколько красивых фраз для признания. Несмотря на житейские трудности, пережитые на Севере, несмотря на горечь утраты, потерю там нашего первенца Игорька, Колыма живет в моей памяти, как воспоминание чего-то из ряда вон выходящего. Это память о необычно суровом крае, это память впечатляющего и незабываемого мира острых ощущений, это хотя и небольшой отрезок жизненного пути, но достаточно весомый, чтобы оставить в моем сердце глубокий, неизгладимый след.
29 февраля 2004 года